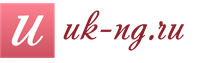Лирика XIX века. Понятие поэзии чистого искусства и демократической поэзии. Творчество Фета, Никитина, Тютчева (по выбору). Моё понимание поэзии «чистого искусства», в лирике А. А. Фета, Ф. И. Тютчева
Поэты «чистого искусства»
Фет Афанасий Афанасьевич (1820 -1892)
«Романсы его (Фета) распевает чуть ли не вся Россия»,-писал в 1863 году композитор Щедрин. Чайковский называл его не просто поэтом, а поэтом-музыкантом. И, действительно, бесспорным достоинством большинства стихотворений А.Фета является их певучесть и музыкальность.
Отец Фета, богатый и родовитый орловский помещик Афанасий Шеншин, возвращаясь из Германии, тайно увез оттуда в Россию жену дармштадского чиновника Шарлотту Фёт. Вскоре Шарлотта родила сына - будущего поэта, который тоже получил имя Афанасий. Однако официальное бракосочетание Шеншина с Шарлоттой, перешедшей в православие под именем Елизавета, совершилось уже после рождения сына. Через много лет церковные власти раскрыли «незаконность» рождения Афанасия Афанасьевича, и, уже будучи 15-летним юношей, он стал считаться не сыном Шеншина, а проживающим в России сыном дармштадского чиновника Фёта. Мальчик был потрясен. Не говоря о прочем, он лишался всех прав и привилегий, связанных с дворянством и законным наследованием. Юноша решил во что бы то ни стало добиться всего того, что судьба так жестоко у него отняла. И в 1873 году просьба о признании его сыном Шеншина была удовлетворена, однако цена, которую он заплатил за достижение своей цели, за то, чтобы исправить «несчастье своего рождения», была слишком велика:
Многолетняя (с 1845 г. по 1858 г.) военная служба в глухой провинции;
Отказ от любви прекрасной, но бедной девушки.
Он приобрел все, чего желал. Но это не смягчило ударов судьбы, вследствие которых «идеальный мир», как писал Фет, «был разрушен давно».
Первые стихи свои поэт опубликовал в 1842 году под фамилией Фет (без точек над ё), ставшей его постоянным литературным псевдонимом. В 1850 г. он сблизился с «Современником» Некрасова, и в 1850 и 1856 годах вышли первые сборники - «Стихотворения А. Фета». В 1860 - 1870-е годы Фет оставляет поэзию, отдавшись хозяйственным делам в усадьбе Степановка Орловской губернии, рядом с владениями Шеншиных, и в течение одиннадцати лет занимал должность мирового судьи. В 1880-е годы поэт вернулся к литературному творчеству и издал сборники «Вечерние огни» (1883, 1885, 1888, 1891).
Фет - наиболее значительный представитель плеяды поэтов «чистого искусства », в творчестве которых нет места для гражданственности.
Фет постоянно подчеркивал, что искусство не должно быть связано с жизнью, что поэту не следует вмешиваться в дела «бедного мира».
Отворачиваясь от трагических сторон действительности, от тех вопросов, которые мучительно волновали его современников, Фет ограничил свою поэзию тремя темами: любовь, природа, искусство.
Поэзия Фета - поэзия намеков, догадок, умолчаний; его стихи по большей части не имеют сюжета, - это лирические миниатюры, назначение которых передать не столько мысли и чувство, сколько «летучее» настроение поэта.
В пейзажной лирике Фета до совершенства доведено проникновение в малейшие изменения состояния природы. Так, стихотворение «Шепот, робкое дыханье…» состоит исключительно из назывных предложений. За счет того, что в предложении нет ни одного глагола, создается эффект точно схваченного сиюминутного впечатления.
Стихотворение
Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали
Лучи у наших ног в гостиной без огней
можно сравнить с пушкинским «Я помню чудное мгновенье». Так же, как и у Пушкина, в фетовском стихотворении две основные части: говорится о первой встрече с героиней и о второй. Годы, прошедшие после первой встречи, были днями одиночества и тоски:
И много лет прошло томительных и скучных…
В финале выражается сила истинной любви, которая поднимает поэта над временем и смертью:
А жизни нет конца, и цели нет иной,
Как только веровать в рыдающие звуки,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой!
Стихотворение «Одним толчком согнать ладью живую » - о поэзии. Для Фета искусство - это одна из форм выражения прекрасного. Именно поэт, считает А.А. Фет, способен выразить то, «перед чем язык немеет».
Тютчев Федор Иванович (1803 - 1873)
Тютчев - «один из величайших лириков, существовавших на земле».
Родился Ф.И. Тютчев 5 декабря 1803 года в г. Овстуг Брянского уезда Орловской области. Будущий поэт получил прекрасное литературное образование. В 13 лет он стал вольным слушателем Московского университета. В 18 лет закончил словесное отделение Московского университета. В 1822 году поступил на службу в государственную коллегию иностранных дел и отправился в Мюнхен на дипломатическую службу. Только через 20 лет он вернулся в Россию.
Впервые стихи Тютчева были напечатаны еще в пушкинском «Современнике» в 1836 году, стихи имели колоссальный успех, но после смерти Пушкина Тютчев не печатал своих произведений, и имя его стали постепенно забывать. Небывалый интерес к творчеству поэта вспыхнул вновь в 1854 году, когда Некрасов уже в своем «Современник» напечатал целую подборку его стихотворений.
Среди основных тем лирики Ф.И. Тютчева можно выделить философскую, пейзажную, любовную.
Поэт много размышляет о жизни, смерти, о предназначении человека, о взаимоотношениях человека и природы.
В стихах о природе прослеживается идея одушевления природы, вера в ее таинственную жизнь:
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик -
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.
Природа предстает в лирике Тютчева в борьбе противоборствующих сил, в беспрерывной смене дня и ночи.
Зима недаром злится -
Прошла ее пора.
Весна в окно стучится
И гонит со двора.
Тютчева особенно привлекали переходные, промежуточные моменты жизни природы. В стихотворении «Осенний вечер» показана картина осенних сумерек; в стихотворении «Люблю грозу в начале мая» мы наслаждаемся вместе с поэтом первым весенним громом.
Размышляя о судьбах своей Родины, Тютчев пишет одно из самых известных своих стихотворений:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.
К лучшим созданиям Тютчева принадлежит и любовная лирика, проникнутая глубочайшим психологизмом, подлинной человечностью, благородством.
На склоне лет Тютчев испытал самое большое в своей жизни чувство - любовь к Елене Александровне Денисьевой. Стихотворения, которые он посвятил ей, вошли в так называемый «Денисьевский цикл» («О, как убийственно мы любим», «Не раз ты слышала признанье», «Последняя любовь» и др.). 15 июля 1873 года Тютчев скончался.
В середине XIX столетия в русской культуре определились два
различных отношения к искусству вообще.
Революционные демократы ждали от искусства прежде всего
гражданской направленности: непосредственного участия в общественно-
политической борьбе, отражения наиболее наболевших
вопросов времени. Все, что находилось вне сферы общественных
интересов, считалось пошлостью, в том числе и «чистая» поэзия.
Крайнюю точку зрения на предназначение искусства высказал
Некрасов в известной формулировке: «Поэтом можешь ты не быть,
но гражданином быть обязан».
В противоположность теории искусства общественного служения
сложилась теория «чистого искусства». Согласно этой теории, искусство
должно быть свободным («чистым») от общественной жизни:
поэту нужно создавать чистые возвышенные образы, отражающие
мир интимных переживаний. Краткая формула «чистого искусства»:
«искусство - для искусства». Ф Тютчев и А. Фет - поэты «чистого
искусства».
Теория «чистого искусства», в поэзии А. А. Фета, Ф. И. Тютчева
Определение «чистое искусство» сложилось в русской критике как отрицательное в 40-50-х годах. Еще о Жуковском и Батюшкове так говорить было нельзя. Чувствовалась большая содержательность их поэзии, позитивные достоинства ее формы. Позднее, по недоразумению и в связи с назойливым подчеркиванием идеологического «консерватизма» Жуковского, это уничижительное определение расползлось и на него как на поэта.В 40-50-х годах ярко заявляет о себе поэтическое творчество А.А. Фета, Ф.И. Тютчева как своеобразная реакция на демократические ориентации, которые шли от Некрасова и Белинского.
Оба поэта - Фет и Тютчев - были вне укреплявшегося направления в литературе, закладывали ее новую родословную. Их начинания были подхвачены А.Н. Майковым, Я.П. Полонским, А.К. Толстым. Поэты этой группы искренне полагали, что поэзия должна говорить о вечном свободно, без принуждения. Никакой теории над собой они не признавали
Объединяясь на некоторых общих принципах, поэты «чистого искусства», однако, во многом различались между собой.
А.А. Фет оказался трудным для объяснения явлением русской поэзии как для современной критики, так и для последующего литературоведения. Демократическая общественность осуждала его уход от злободневных социальных вопросов, за чрезмерно камерный характер его поэзии. Не улавливались тонкости его наблюдений и поэтического и художественного мастерства.
Он сложен и противоречив еще и в следующем отношении: чрезвычайно большой разрыв был между Фетом - тонким лириком и Шеншиным - человеком.
Фет позволял себе бравировать парадоксами: «Художественное произведение, в котором есть смысл, для меня не существует». «В нашем деле истинная чепуха и есть истинная правда». «Моя муза не лепечет ничего, кроме нелепостей». Поэтому-то Д.И. Писарев платил ему тем же и начисто в своих статьях перечеркивал хоть какое-нибудь значение Фета-стихотворца.
Суровый враг «мотыльковой поэзии» М.Е. Салтыков-Щедрин писал, что большая часть стихотворений Фета «дышит самою искреннею свежестью», она «покоряет себе сердца читателей», романсы на стихи Фета «распевает чуть ли не вся Россия». И опять с трезвой точностью говорится о неровном качестве стихов, о том, что «тесен, однообразен и ограничен» мир Фета, хотя и мало кто сравнится с ним в «благоухающей свежести».
Добролюбов, говоря о Фете как о мастере «улавливать мимолетные впечатления», в сущности, ставил уже проблему импрессионизма Фета, до сих пор удовлетворительно никем из ученых не проясненную.
Есть три позиции в объяснении Фета.
Первая: мы хотим знать только «хорошего» Фета, крупнейшего лирика, и ни до чего другого Фет и Шеншин, поэт и делец, и хотя шеншин часто мешал Фету, эти помехи надо игнорировать как чисто эмпирические обстоятельства, как недоразумения частной жизни, будничную суету, не стоящую внимания. И, наконец, третья позиция: имеются диалектические связи между Фетом и Шеншиным, между благоухающим лириком и воинствующим консерватором. Нас должна интересовать диалектика связей между жизнью и убеждениями Фета, с одной стороны, и его «чистой» лирикой - с другой.Подлинную диалектику надо искать не в уродливых связях - соотношениях Фета с Шеншиным, величайшего лирика с корыстолюбивым помещиком - этот путь ложный и непродуктивный. Связи могут быть только между фетовским поэтическим миром и беспредельным миром общечеловеческой жизни, жизни природы, общества. Подлинная правда Фета сформулирована им самим в одной из статей 1867 года: «Только человек и только он один во всем мироздании чувствует потребность спрашивать: что такое окружающая его природа? откуда все это? что такое он сам? откуда? куда? зачем? И чем выше человек, чем могущественнее его нравственная природа, тем искреннее возникают в нем эти вопросы».
Фет проповедует не узость, а наблюдательность. Конечно, в мире есть не только это, но и это есть. Все существует для человека. Внутренний человек - мера всех вещей. Он вправе выбирать. Процитируем еще стихотворение «Добро и зло»:
Фет не задается «космическими» проблемами человеческого бытия. Мир Фета - абсолютно посюсторонний, не касается ничего мистического, судеб мироздания. В земной жизни, в человеке отобрана своя сфера мимолетных впечатлений и чувствований. Этим своим «импрессионизмом» Фет и мог понравиться модернистам, символистам в конце XIX века.
Фет - единственный из великих русских поэтов, убежденно и последовательно (за единичными исключениями) ограждавший свой художественный мир от социально-политических проблем. Однако сами эти проблемы не только не оставляли Фета равнодушным, но, напротив, вызывали его глубокий интерес, становились предметом острых публицистических статей и очерков , постоянно обсуждались в переписке. В поэзию же они проникали очень редко. Фет как бы чувствовал непоэтичность тех общественных идей, которые развивал и отстаивал. При этом он вообще считал непоэтичным всякое произведение, в котором существует отчетливо выраженная мысль, открытая тенденция, тем более - чуждая ему тенденция современной демократической поэзии. С конца 1850-х - начала 1860-х годов и далее художественные принципы некрасовской школы вызывали у Фета не только идейный антагонизм, но и стойкое, обостренное эстетическое неприятие.
Феномен Фета заключался в том, что сама природа его художественного дара наиболее полно соответствовала принципам "чистого искусства". "...Приступая к изучению поэта, - писал Белинский в пятой статье о Пушкине, - прежде всего должно уловить, в многообразии и разнообразии его произведений, тайну его личности, т. е. те особности его духа, которые принадлежат только ему одному. Это, впрочем, значит не то, чтоб эти особности были чем-то частным, исключительным, чуждым для остальных людей: это значит, что все общее человечеству никогда не является в одном человеке, но каждый человек, в большей или меньшей мере, родится для того, чтобы своею личностию осуществить одну из бесконечно-разнообразных сторон необъемлемого, как мир и вечность, духа человеческого" (курсив мой. - Л. Р.).
Одной из насущных потребностей человеческого духа Белинский считал его устремленность к красоте: "Прекрасна и любезна истина и добродетель, но и красота также прекрасна и любезна, и одно другого стоит, одно другого заменить не может". И еще: "...красота сама по себе есть качество и заслуга и притом еще великая" .
Пользуясь определением Белинского, можно сказать, что Фет родился, чтобы поэтически воплотить стремление человека к красоте, в этом и заключалась "тайна его личности". "Я никогда не мог понять, чтобы искусство интересовалось чем-либо помимо красоты", - признавался он в конце жизни . В программной для его эстетики статье "О стихотворениях Ф. Тютчева" (1859) Фет писал: "Дайте нам прежде всего в поэте его зоркость в отношении к красоте" .
Стихотворение Фета "А. Л. Б<ржеск>ой" (1879) написано в размере лермонтовской "Думы" и в жанре исповеди:
Кто скажет нам, что жить мы не умели,
Бездушные и праздные умы,
Что в нас добро и нежность не горели
И красоте не жертвовали мы?
Строки эти звучат полемически, как бы от имени друзей-единомышленников ("мы"): "Мы" - не потерянное поколение, "мы" не уйдем бесследно и бесславно, ибо служил добру и жертвовали красоте. Можно спросить, чем жертвовал Фет? Многим, и прежде всего - популярностью, оставаясь в течение долгого времени поэтом для сравнительно узкого круга ценителей искусства.
Другое суждение Белинского из той же пятой статьи о Пушкине также оказалось очень близким Фету. Это - определение "поэтическая идея". "Искусство не допускает к себе отвлеченных философских, а тем менее рассудочных идей: оно допускает только идеи поэтические" . Возможно, что центральное для эстетики Фета понятие "поэтическая мысль", основополагающее в его статье "О стихотворениях Ф. Тютчева", возникло не без влияния этого рассуждения Белинского.
Белинский заметил Фета в самом начале его пути: "Из живущих в Москве поэтов всех даровитее г-н Фет" - и особенно выделил (в третьей статье о Пушкине) его антологические стихи . Несколько позже, в обзоре "Русская литература в 1843 году", отмечая, что "стихотворения нынче мало читаются", Белинский обращает внимание на "довольно многочисленные стихотворения г-на Фета, между которыми встречаются истинно поэтические" . Однако одновременно он сетует на ограниченность содержания сочинений молодого поэта: "...я не читаю стихов (и только перечитываю Лерм<онтова>, все более погружаясь в бездонный океан его поэзии), и когда случится пробежать стихи Фета или Огарева, я говорю: "Оно хорошо, но как же не стыдно тратить времени и чернил на такие вздоры?" (письмо В. П. Боткину от 6 февраля 1843 года). Больше имя Фета у Белинского не появляется. В последние же годы жизни весь его энтузиазм отдан защите социального направления литературы, "натуральной школы", которая вызывала враждебное отношение поэта.
В начале декабря 1847 года Белинский писал своему другу Боткину, будущему теоретику "чистого искусства" и единомышленнику Фета, о различии их убеждений: "Стало быть, мы с тобою сидим на концах. Ты, Васенька, сибарит, сластена - тебе, вишь, давай поэзии, да художества - тогда ты будешь смаковать и чмокать губами. А мне поэзии и художественности нужно не больше как настолько, чтобы повесть была истинна, т. е. не впадала в аллегорию и не отзывалась диссертациею. Для меня дело - в деле. Главное, чтобы она вызывала вопросы, производила на общество нравственное впечатление. Если она достигает этой цели и вовсе без поэзии и творчества, - она для меня тем не менее интересна, и я ее не читаю, а пожираю".
Но до широкой полемики об эстетических принципах "чистого искусства" было еще далеко. Она развернулась в период острой общественной борьбы конца 50-х - начала 60-х годов и в этом аспекте достаточно хорошо изучена. Из статей сторонников "чистого искусства" наиболее известны: "Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения" А. Дружинина, направленная против "Очерков гоголевского периода русской литературы" Чернышевского ("Библиотека для чтения", 1856, т. 140), "Стихотворения А. Фета" В. Боткина ("Современник", 1857, № 1), которую Л. Толстой назвал "поэтическим катехизисом поэзии" (письмо Боткину от 20 января 1857 года), а также статья самого Фета "Стихотворения Ф. Тютчева". В ряду этих программных выступлений статья Фета выделяется тем, что это - слово поэта, в котором эстетическая теория формулируется как результат своего художественного опыта и как обретенный в собственных художественных исканиях "символ веры".
Утверждая, что художнику дорога только одна сторона предметов - их красота, понимая красоту, гармонию как изначальные, неотъемлемые свойства природы и всего мироздания, Фет отказывается видеть их в общественной жизни: "...вопросы - о правах гражданства поэзии между прочими человеческими деятельностями, о ее нравственном значении, о современности в данную эпоху и т. п. считаю кошмарами, от которых давно и навсегда отделался" . Но не только общественные, идеологические "вопросы" неприемлемы в поэзии, с точки зрения Фета. Неприемлема вообще прямо заявленная идея. В поэзии возможна лишь "поэтическая мысль". В отличие от мысли философской, она не предназначена "лежать твердым камнем в общем здании человеческого мышления и служить точкою опоры для последующих выводов; ее назначение озарять передний план архитектонической перспективы поэтического произведения, или тонко и едва заметно светить в ее бесконечной глубине" . С этой точки зрения Фет предъявляет претензию (правда, единственную во всей статье) даже к последней строфе стихотворения "обожаемого поэта" Тютчева "Итальянская villa": "Художественная прелесть этого стихотворения погибла от избытка содержания. Новое содержание: новая мысль, независимо от прежней, едва заметно трепетавшей во глубине картины, неожиданно всплыла на первый план и закричала на нем пятном" .
Можно оспорить суждение Фета, можно вспомнить, что и сам он в дальнейшем, особенно после увлечения Шопенгауэром, не избегал открытых философских высказываний в поэзии, но важно понять главную эстетическую устремленность Фета: создание образа красоты есть цель искусства, и она лучше всего достигается, когда поэтическая мысль, в отличие от философской, не выражается непосредственно, а светит в "бесконечной глубине" произведения.
Эстетическая концепция Фета, и, как бы ни избегал он сам подобных определений, это была именно концепция - отчетливо формулируемая система взглядов, вызревала постепенно. Так, в путевых очерках «Из-за границы» (1856-1857) Фет говорит о тех потрясающих впечатлениях, которые пережил он в Дрезденской галерее перед "Сикстинской Мадонной" Рафаэля и в Лувре перед статуей Венеры Милосской. Главная мысль Фета - о непостижимости этих вершинных явлений искусства для рационалистического познания, о совсем иной природе поэтической идеи. "Когда я смотрел на эти небесные воздушные черты, - пишет Фет о Мадонне, - мне ни на мгновение не приходила мысль о живописи или искусстве; с сердечным трепетом, с невозмутимым блаженством я веровал, что Бог сподобил меня быть соучастником видения Рафаэля. Я лицом к лицу видел тайну, которой не постигал, не постигаю и, к величайшему счастью, никогда не постигну". И далее - о Венере: "Что касается до мысли художника, - ее тут нет. Художник не существует, он весь перешел в богиню <...> Ни на чем глаз не отыщет тени преднамеренности; все, что вам невольно поет мрамор, говорит богиня, а не художник. Только такое искусство чисто и свято, все остальное - его профанация". И наконец - как обобщение: "Когда в минуту восторга перед художником возникает образ, отрадно улыбающийся, образ, нежно согревающий грудь, наполняющий душу сладостным трепетом, пусть он сосредоточит силы только на то, чтобы передать его во всей полноте и чистоте, рано или поздно ему откликнутся. Другой цели у искусства быть не может, по той же причине, по кото рой в одном организме не может быть двух жизней, в одной идее - двух идей" (курсив мой. - Л. Р.).
В 1861 году в спор между демократической критикой и сторонниками "чистого искусства" включился Достоевский. Его статья "Г.-бов и вопрос об искусстве" ("Время", 1861, № 1) рассматривала проблему с замечательной ясностью и полнотой. Прежде всего Достоевский объявляет, что не придерживается ни одного из существующих направлений, поскольку вопрос "ложно поставлен". Утверждая, что искусство требует свободы творчества и вдохновения, и тем выражая сочувствие сторонникам "чистого искусства", Достоевский показывает, что они противоречат своим же принципам, не признавая за обличительной литературой права на такую же свободу. Идеал "высшей красоты", эстетический восторг перед красотой Достоевский глубоко разделяет, и как эталон "чистого искусства" в его рассуждениях представлен именно Фет (в памяти Достоевского не только стихотворения Фета, но и его статья о Тютчеве, о чем свидетельствует текст). И хотя потребность красоты в искусстве вечна, а следовательно, всегда современна, возможны такие трагические моменты в жизни общества, когда "чистое искусство" окажется неуместным и даже оскорбительным (фантастическое предположение о том, как на другой день после Лиссабонского землетрясения в газете "Лиссабонский Меркурий" появляется стихотворение "Шопот, робкое дыханье..." и о несчастной участи замечательного поэта, которому впоследствии потомство все же воздвигнет памятник).
Подлинный апофеоз фетовской лирики возникает в конце статьи, где Достоевский анализирует "антологическое" стихотворение "Диана", приводившее в восторг современников, несмотря на различие их общественных взглядов: "Последние две строки этого стихотворения полны такой страстной жизненности, такой тоски, такого значения, что мы ничего не знаем более сильного, более жизненного во всей нашей русской поэзии" .
В следующем году в том же журнале "Время" (1862, № 7) появилась статья А. Григорьева "Стихотворения Н. Некрасова", где поэзия демократическая и поэзия "чистого искусства", несмотря на резкое противостояние их идеологов, рассматривались как две закономерные стороны общего развития литературы послепушкинского периода. Позиция эта принципиально совпадала со взглядами редакции журнала Достоевских, о чем А. Григорьев сообщает в самом начале: "Редактор "Времени", с которым я говорил об этой назревавшей у меня в душе статье, советовал мне поговорить сначала о критических толках по поводу стихотворений любимого современного поэта" (то есть Некрасова. - Л. Р.) . А. Григорьев так и делает, обнаруживая, что борьба, происходящая в критике, не поднималась до понимания, с одной стороны, высокого поэтического (а не только идейного) значения некрасовской "музы мести и печали", с другой - поэзии "чистого искусства". "Начните, например, говорить о стихотворениях Фета, - замечает А. Григорьев, - (я беру это имя как наиболее оскорбленное и оскорбляемое нашей критикой...): тут, во-первых, надобно кучу сору разворачивать, а во-вторых, о поэзии вообще говорить, о ее правах на всесторонность, о широте ее захвата и т. п., - говорить, одним словом, о вещах, которые критику надоели до смерти, да которые и всем надоели, хотя в то же самое время всеми положительно позабыты" . "Поэты истинные, все равно, говорили ли они
Мы рождены для вдохновений ,
Для звуков сладких и молитв, -
служили и служат одному: идеалу, разнясь только в формах выражения своего служения. Не надобно забывать, что руководящий идеал, как Егова израильтянам, является днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном. Но каково бы ни было отношение к идеалу, оно требует от жреца неуклонной, неумытной правды" .
А. Григорьев пишет об односторонности каждой из борющихся партий: демократической критики ("теоретиков") и "обиженной" критики (защитников "чистого искусства"), "упорно верующей в вечность законов души человеческой". "Всякий принцип, как бы глубок он ни был, - утверждает А. Григорьев, - если он не захватывает и не узаконивает всех ярких, могущественно действующих силою своею или красотою явлений жизни, односторонен, следовательно, ложен <...> Найдется ли когда-нибудь всесторонний принцип, - я не знаю и, уж конечно, не мечтаю сам его найти" (курсив мой. - Л. Р.).
«Одностороннему» принципу «чистого искусства» всю жизнь был верен Фет и довел его до такой духовной полноты и поэтического совершенства, до таких художественных открытий, что, казалось бы, правота взглядов Достоевского и А. Григорьева могла стать очевидной. Однако общественная борьба имеет свои законы, и дискуссия вокруг позиции Фета разгоралась.
Неуклонно отстаивая свои эстетические убеждения, Фет с годами чувствовал себя все более и более одиноким. В конце пути он с горечью сетовал в письме к К. К. Романову (поэту К. Р.) 4 ноября 1891 года: "... все мои друзья пошли в прогресс и стали не только в жизненных, но и в чисто художественных вопросах противниками прежних своих и моих мнений" .
Внимание критиков всегда привлекало то обстоятельство, что мир Фета отчетливо разделен на сферу практической жизни и сферу красоты. И если первая подчинена суровой необходимости, вторая предполагает истинную свободу, вне которой немыслимо творчество. Это раздвоение было замечено давно, но объяснялось по-разному.
Современники Фета из демократического лагеря, несмотря на разногласия между собой, находили здесь причины исключительно социальные. Так, Салтыков-Щедрин один из разделов хроники "Наша общественная жизнь" ("Современник", 1863, № 1-2) озаглавил: "Г-н Фет как публицист". Здесь он пишет:
"Помните ли вы г. Фета, читатель? того самого г. Фета, который некогда написал следующие прелестные стихи:
О, долго буду я, в молчаньи ночи тайной,
Коварный лепет твой, улыбку, взор случайной,
Перстам послушную волос златую прядь
Из мыслей изгонять и снова призывать...
Здравствуй! тысячу раз мой привет тебе, ночь!
Опять и опять я люблю тебя,
Тихая, теплая,
Серебром окаймленная!
Я совсем не шутя говорю, что эти стихи прелестны: по моему мнению, других подобных стихов современная русская литература не имеет. Ни в ком решительно не найдет читатель такого олимпического безмятежия, такого лирического прекраснодушия. Видно, что душа поэта, несмотря на кажущуюся мятежность чувств, ее волнующих, все-таки безмятежна; видно, что поэта волнуют только подробности, вроде "коварного лепета", но жизнь, в общем ее строе, кажется ему созданною для наслаждения и что он действительно наслаждается ею. Но увы! С тех пор как г. Фет писал эти стихи, мир странным образом изменился! С тех пор упразднилось крепостное право, обнародованы новые начала судопроизводства и судоустройства, светлые струи безмятежия и праздности возмущены, появился нигилизм и нахлынули мальчишки. Правды на земле не стало; люди, когда-то наслаждавшиеся безмятежием, попрятались в ущелия и расседины земные, остался один "коварный лепет", да и то совсем не такого свойства, чтобы его
Из мыслей изгонять и снова призывать..." .
Однако публицистика Фета (к тому времени были опубликованы "Заметки о вольнонаемном труде" - 1862 год и два очерка "Из деревни" - 1863 год) ни в малой мере не свидетельствует о грусти по ушедшей крепостнической эпохе или о том, что, погрузившись в безмятежные лирические чувства, Фет не заметил происходящих в стране перемен. Напротив, размышления Фета-публициста направлены на коренное реформирование хозяйственной деятельности, всей сельской жизни на основе вольнонаемного труда и тщательно разработанного законодательства для установления и регулирования отношений между помещиками и крестьянами, на образование и воспитание крестьян. Но, полемически заостряя тему, Салтыков не намерен замечать это. Он укоряет Фета за крепостнические настроения, и в частности за его конфликт с нерадивым работником Семеном, задолжавшим барину 11 рублей, делая из этого, в целом незначительного эпизода, широкие обобщения: "Вместе с людьми, спрятавшимися в земные расседины, и г-н Фет скрылся в деревню. Там, на досуге, он отчасти пишет романсы, отчасти человеконенавистничает; сперва напишет романс, потом почеловеконенавистничает, потом опять напишет романс и опять почеловеконенавистничает, и все это для тиснения отправляет в "Русский вестник" . То, что Фет-публицист присоединился к антидемократическому направлению катковского журнала, побуждает Салтыкова (без всяких на то оснований) услышать "вопль души по утраченном крепостном рае" даже в стихотворении "Прежние звуки с былым обаяньем..." ("Русский вестник", 1863, № 1).
В следующем году о противоречиях Фета писал Писарев. В юности Фет был одним из любимых поэтов критика, в чем он признавался в начале статьи с характерным названием "Промахи незрелой мысли" ("Русское слово", 1864, кн. 12). В статье "Реалисты", впервые напечатанной под названием "Нерешенный вопрос", Писарев утверждал: "...поэт может быть искренним или в полном величии разумного миросозерцания, или в полной ограниченности мыслей, знаний, чувств и стремлений. В первом случае он - Шекспир, Дант, Байрон, Гете, Гейне. Во втором случае он - г. Фет. - В первом случае он носит в себе думы и печали всего современного мира. Во втором - он поет тоненькою фистулою о душистых локонах и еще более трогательным голосом жалуется печатно на работника Семена <...> Работник Семен - лицо замечательное. Он непременно войдет в историю русской литературы, потому что ему назначено было провидением показать нам обратную сторону медали в самом яром представителе томной лирики. Благодаря работнику Семену мы увидели в нежном поэте, порхающем с цветка на цветок, расчетливого хозяина, солидного bourgeois и мелкого человека. Тогда мы задумались над этим фактом и быстро убедились в том, что тут нет ничего случайного. Такова должна быть непременно изнанка каждого поэта, воспевающего "шопот, робкое дыханье, трели соловья" ("Русское слово", 1864, кн. 9-11) .
Уже в новую эпоху, в начале следующего века о "двойственности" Фета говорил В. Я. Брюсов. В лекции "А. А. Фет. Искусство и жизнь", прочитанной в 1902 году в связи с десятилетием со дня смерти Фета, он объяснял противоречия Фета причинами только философскими. "Мысль Фета, - пишет Брюсов, - воспитанная критической философией, различала мир явлений и мир сущностей. О первом говорил он, что это "только сон, только сон мимолетный", что это "лед мгновенный", под которым "бездонный океан" смерти. Второй олицетворял он в образе "солнца мира". Ту человеческую жизнь, которая всецело погружена в "мимолетный сон" и не ищет иного, клеймил он названием "рынка", "базара" <...> Но Фет не считал нас замкнутыми безнадежно в мире явлений, в этой "голубой тюрьме", как сказал он однажды. Он верил, что для нас есть выходы на волю, есть просветы... Такие просветы находил он в экстазе, в сверхчувственной интуиции, во вдохновении. Он сам говорит о мгновениях, когда "как-то странно прозревает" .
Однако все примеры, приведенные Брюсовым, относятся ко времени 1860-х годов и позднее: самый ранний из них - "И как-то странно порой прозреваю" (из стихотворения "Измучен жизнью, коварством надежды") - 1864 год. Предыдущее творчество Фета еще не было связано с немецкой классической философией, но эстетические принципы поэта сложились к этому времени вполне определенно.
Именно они, утверждающие служение красоте как высшую цель свободного искусства, давали возможность Фету отъединить поэтическое творчество от практической деятельности. И так было всегда, от начала и до конца пути. Идейная и художественная эволюция Фета, обогащение его лирики философской проблематикой, новые открытия в области поэтического языка происходили в пределах одной эстетической системы. Более того, Фет глубоко ощущал не только нераздельность своего художественного мира на всем протяжении пути, но и целостность прожитой им духовной жизни, от юности до старости.
Всё, всё мое, что есть и прежде было,
В мечтах и снах нет времени оков;
Блаженных снов душа не поделила:
Нет старческих и юношеских снов.
В уже упомянутом письме к К. Романову от 4 ноября 1891 года Фет признавался: "Я с первых лет ясного самосознания нисколько не менялся, и позднейшие размышления и чтения только укрепили меня в первоначальных чувствах, перешедших из бессознательности к сознанию".
Среди позднейших "размышлений и чтений", как известно, значительное место принадлежало Шопенгауэру. Философ привлек Фета представлением о целостной и всегда равной себе картине мира, о свободном художественном созерцании, чуждом практическим интересам. В 1878 году Фет начал переводить главный труд Шопенгауэра "Мир как воля и представление".
В статье Д. Благого "Мир как красота", названной так по аналогии с заглавием труда Шопенгауэра, справедливо отмечается, что Фет воспринял философию Шопенгауэра как откровение, "потому что она оказалась внутренне очень близка ему и вместе с тем приводила в целостную и стройную систему то, что он познал в своем собственном жизненном опыте и в сложившемся в результате его мировоззрении, в котором легко обнаружить уже имевшиеся еще задолго до знакомства с Шопенгауэром некие "шопенгауэровские" черты". Затем исследователь так развивает свою мысль: "Близко было ему, "всю жизнь", как он пишет, твердившему "об ужасе жизни", и безоговорочно пессимистическое воззрение Шопенгауэра, которое сам немецкий философ противопоставляет решительно всем другим философским системам ("так как все они оптимистичны")". Однако, говоря о том, что поэзия Фета отличается от его философских убеждений оптимистическим характером, автор прибегает к известному разделению "Фет - Шеншин": "...в поэзии Фета нет и тени той философии пессимизма, ощущения безысходного ужаса бытия, переживания жизни как нескончаемой цепи страданий, что составляет пафос шопенгауэровской философской системы. Все это оставляется на потребу Шеншину" . Но возможно ли столь решительно разъединять мировоззрение, философские взгляды поэта и его творчество? Достаточно вспомнить, что в одном из писем Толстому (3 февраля 1879 года) сам Фет подчеркивал связь своих стихов с усиленными занятиями философией: "Второй год я живу в крайне для меня интересном философском мире, и без него едва ли можно понять источник моих последних стихов". Письмо написано как раз во время работы над переводом Шопенгауэра.
Действительно, поэтический мир Фета, несмотря на глубину страданий, горечь утрат, в целом оптимистичен, нередко даже приподнято, вдохновенно оптимистичен. Но это - результат не внутреннего отстранения от шопенгауэровского пессимизма, а его психологического, философского преодоления. Так, стихотворение "Измучен жизнью, коварством надежды, / Когда им в битве душой уступаю..." (<1864>) открывается эпиграфом из Шопенгауэра, а заканчивается совсем другим настроением:
И этих грез в мировом дуновеньи,
Как дым, несусь я и таю невольно,
И в этом прозреньи, и в этом забвеньи
Легко мне жить и дышать мне не больно.
Стихотворений безнадежно горьких, которые встречают ся у всех больших поэтов, у Фета очень немного. Одно из них - "Напрасно!" (<1852>), написанное еще до знакомства с Шопенгауэром, завершается так:
Бессилье изведано слов к выраженью желаний.
Безмолвные муки сказалися людям веками,
Но очередь наша, и кончится ряд испытаний
Но больно,
Что жребии жизни святым побужденьям враждебны;
В груди человека до них бы добраться довольно...
Нет! вырвать и бросить; те язвы, быть может, целебны, -
Но больно.
Все же общая настроенность поэзии Фета, от юности до старости, от восторженно-радостного "Я пришел к тебе с приветом..." (1843) до "Еще люблю, еще томлюсь / Перед всемирной красотою..." (конец 1890), очень далека от пессимизма.
Единство эстетического мира Фета отразилось в композиции "Вечерних огней", где хронологический принцип не имеет существенного значения. Так, раздел "Мелодии" (в первом выпуске) открывает "Сияла ночь. Луной был полон сад..." (1877). Затем после нескольких стихотворений 70-х годов идут "Солнце нижет лучами в отвес..." и "Месяц зеркальный плывет по лазурной пустыне..." (оба - 1863), далее - "Забудь меня, безумец исступленный..." (1855), и завершается все стихотворением "Прежние звуки с былым обаяньем..." (1863).
То же безразличие к хронологии проявлено при формировании других разделов ("Море", "Снега", "Весна") и особенно - раздела "Элегии и думы", где стихотворения, написанные в 60-е, 70-е и 80-е годы, перемежаются. Очевидно, В. Соловьев, которого Фет в дарственной надписи назвал "зодчим этой книги" , в полном согласии с автором стремился представить читателю эстетически целостный мир поэта.
Того же мнения несомненно держался и Страхов, также принимавший участие в подготовке "Вечерних огней". Уже после смерти Фета, когда Страхов вместе с К. Р. готовил издание "Лирических стихотворений" Фета, он писал своему соредактору, что необходимо: "Удержать порядок, в котором расположены были стихотворения, потому что этот порядок и сохранился в памяти читателей, и имел некоторое значение у автора. Напр<имер>, в третьем выпуске "Муза" прямо примыкает к предисловию. Если же расположить строго хронологически, то придется перетасовать стихотворения и поставить впереди то, что писано гораздо раньше "Вечерних огней" .
Поэзия чистого искусства 60-Х годов Русская литература 50-х-60-х годов насчитывает несколько известных и ныне поэтов, составляющих плеяду жрецов чистого искусства. К ним относятся Тютчев, Алексей Толстой, Полонский, Майков и Фет. Все эти поэты в прошлом русской литературы восходят к Пушкину, который в большинстве своих юношеских стихотворений являлся теоретиком чистого искусства и указал впервые в русской литературе на значение поэта. Не для житейского волнения. Не для корысти, не для битв, Мы рождены для вдохновенья, Для звуков сладких молитв. Это программа поэта, призыв к уходу в святыню поэзии, не считаться с требованиями толпы, с требованиями утилитаризма. Поэзия - самоцель для поэта, необходимо спокойное созерцание, замкнувшись от суетного мира, и углубиться в исключительный мир индивидуальных переживаний. Поэт свободен, независим от внешних условий. Назначение его идти туда, куда влечет свободный ум. Дорогой свободной Иди, куда влечет тебя свободный ум, Усовершенствуя плоды любимых дум. Он в самом тебе, ты сам свой высший суд, Не требуя наград за подвиг благородный. Свободное творчество есть подвиг поэта. И за этот благородный подвиг не нужно земных похвал. Не они определяют ценность поэзии. Есть высший суд, и ему только надлежит сказать, дать оценку поэзии, как сладкому звуку, как молитве. И этот высший суд внутри самого поэта. Так определит свободу творчества и индивидуальный мир поэта Пушкин в первый период своей творческой деятельности. Вот эти поэтические лозунги и были заключены в основу творчества всех перечисленных выше поэтов чистого искусства. Также, как из позднейших произведений Пушкина вырастают реалисты, прозаики Тургенев, Достоевский, Толстой и другие. Точно так же, с другой стороны, романтизм Пушкина подготовил почву расцвету чистой поэзии и повлек за собою значительную группу поэтов-романтиков. Таким образом идея служения чистой поэзии не было явлением новым, возникшим только в период 50-х годов. Его корни находились в поэтическом наследстве прошлого. Причем, надо сказать, особенное тяготение позднейших поэтов к этой идее в 50-ые годы объясняется еще несколькими новыми историческими литературными факторами, возникшими в эти годы. Это развитие идеи утилитаризма в литературе. Русская общественная жизнь подвергалась сильнейшей ломке на переломе 50-х-60-х годов. И новые исторические ситуации - представшие после реформы в жизни русского общества, властно требуют переоценки многих ценностей, массового пересмотра и переучета всего, что накопилось от прошлого во всех отраслях жизни. Необходимость новой оценки, нового анализа, по новым [........] пройденного пути предстали и перед людьми, причастными к литературе. Кроме того, наряду с развивающимся либерализмом в умах передовых представителей в русской общественной мысли того времени усиливалась еще правительственная реакция, налагая на все свое вето неограниченного абсолютизма, та оценка общественной ценности в среде либералов и большой массы русской общественности происходила под исключительным знаком общественной значимости тех или иных явлений, в том числе их литературных произведений. Появляется и процветает общественная критика, отрицающая всякий идеализм и индивидуализм в творчестве, требующая общественной полезности литературных произведений и требующая служения коллективу. Противопоставление идеализму литературного рационализма. Стремление подчистить миру мечту. Прежнему пониманию о назначении поэта как свободного жреца свободного искусства противопоставляют новое понимание о значении поэта как носителя гражданского долга, как поборника добра против всех общественных зол. Отсюда необходимость гражданских мотивов и усиления гражданской скорби, обличение социальной неправды, навязывание литературным произведениям определенных реальных общественных заданий. Причем наряду с усиливающейся общественной критикой появляются как результат новых веяний и как новое литературное явление, появляется новая поэзия, как поэзия Некрасова, всецело поглощенная идеей служения обществу, пропитанная насквозь духом народничества. Муза мести и печали, бичуя социальное зло, выбирает темы почти исключительно из жизни низов, отражает тяжелый быт крестьянства, находящегося под гнетом самодержавного бесправия, насилия и в темноте и невежестве. Поэт творит не для избранного округа образованных читателей, а старается сблизить поэзию к массам. Поэтому самого поэтический стиль снижает до уровня этой массы. Поэзия в лице Некрасова популяризирует идеологию народничества; стремление общественному долгу привносит в поэзию яркую общественно-политическую окраску, привносится тенденциозность в искусство. И эта тенденция в искусстве требовалась и оправдывалась не только общественной критикой того времени в лице Чернышевского, Добролюбова и других. Но того же самого требовали и все передовые представители читательских масс. Но усиление этого народнического течения в литературе 50-х-60-х годов не могло увлечь за собою все силы общества и главным образом не могло увлечь всех поэтов и писателей. Среди последних появляются группы, не разделяющие идею утилитаризма и вместо него выставляющие во главу своей творческой деятельности самодовлеющую ценность искусства. Превозносящие поэзию как недоступную для масс святыню, где только художнику позволено постичь все тайны бытия, где для художника существует особый замкнутый мир, блаженный край, на ложе которого поэт должен забыть мирскую суету. Должен стать выше интересов толпы и с высоты творения беспристрастно созерцать все земное со всеми будничными интересами и всей житейской пошлостью. В этом миру поэт должен найти отдых от серой действительности. Если так, то поэты-утилитаристы не есть поэты, они торгаши словами, они осквернители божественного храма чистого искусства. Чистая поэзия высока, священна, для нее чужды земные интересы как со всеми одобрениями, хвалебными гимнами, так и порицаниями, поручениями и требованиями полезного для них. Такое понимание сущности и задачи поэзии, как отмечено выше, впервые было провозглашено Пушкиным и оно нашло живой отклик целого хора поэтов 50-60-х годов. Но появление последних совпало с природным усилением утилитаризма, и это появление было не случайное. Поэты - сторонники чистого искусства - сознательно пошли против усиленного течения своего времени. Это являлось сознательной реакцией против требований гражданского долга и против всех общественных требований. Они поэты-сектанты, отколовшиеся от остального общества, протестанты, ушедшие в боковые дорожки чистой поэзии во имя свободного творчества и во имя сохранения своего индивидуального облика свободных жрецов искусства. Поэтому темы их в большинстве светско-аристократически избранные. Поэзия для понимающих ее. Для избранного круга читателя. Отсюда преобладающая лирика любви, лирика природы, живой интерес и тяготение к классическим образцам, к античному миру (Майков А.Т.); поэзия мирового хаоса и мирового духа Тютчев; стремление ввысь, поэзия мгновения, непосредственного впечатления от видимого мира, мистическая любовь к природе и тайна мироздания. Поэзия вздохов и мимолетного ощущения. И чистая поэзия как гимн вечной красоты, вечному сиянию, златотканому покрову, вечно солнечному дню, звездной и лунной ночи. И во всем величии и красоте мироздания человек как необходимый звук в мировой гармонии, а песня, вырывающаяся из уст, томный звук струны, который вторит как эхо мировой симфонии. Причем поэзия чистого искусства как таковая различным образом представлена в творчестве каждого из этих поэтов. Сохраняя общие настроения, общие мотивы творчества и являясь вполне определенными представителями чистого искусства в оценке сущности и целей поэта, между ними все же необходимо различать и ту разницу, которая выражается в приемах творчества, главным образам в выбираемых темах, точно так же и в идейном содержании творчества. При таком подходе нетрудно установить существенную разницу между такими поэтами, как Фет, положа с одной стороны, и Тютчевым, Майковым и Толстым, с другой. Поэзия последних больше насыщена народным содержанием как идеал мирового христианского государства, основателем которого должны явиться славянские народы у Тютчева, или сознательное тяготение и подражание античными образам у Майкова, активно полемические тенденции как поборника чистого искусства Л.Толстого - все это в целом можно отметить как моменты усиления идейности содержания и как известные тенденциозные предпосылки умозрительного порядка в творчестве поэтов чистого искусства. Эти моменты надо рассматривать как некоторое отступление от основного свойства чистой поэзии, источником которого является в большинстве случаев мир подсознательного, мир впечатлений и мир кажущегося вдохновенному взору поэта-мистика и пантеиста. И в числе поэтов 60-х годов есть такой поэт, который является наиболее ярким, типичным представителем подлинной чистой поэзии, и таковым является Афанасий Афанасиевич Фет, на творчестве которого остановимся как на наиболее ярко отражающем облик чистой поэзии 60-х годов. Поэзия для Фета, как для всех поэтов чистого искусства, самоценна, ее цели и задачи определены внутри самой поэзии, причем основная ее цель не снисходить, а возвышать. Его поэзии присуща исключительная чистота и духовность, но действий в ней нет. Вместо действий один порывается ввысь, вспыхивающие мысли, вздохи души и масса впечатлений [........] радости и печали. Поэт - единственный ценитель мировой красоты. Тоска земли не омрачит его фантазию. "Горная высь" "Твоя судьба - на гранях мира Не снисходить, а возвышать. Не тронет вздох тебя бессильный, Не омрачит земли тоска: У ног твоих, как дым кадильный, Вияся тают облака", (июль 1886) Так далек поэт от всего земного. Его внутренний мир и его проникновенность в тайны мироздания так цельны и так утонченно проницательны, что сожалеет о своей песне, которой присущи вечные благородные порывы за пределы земного, но которому суждено быть пленной птицей в беспомощном сердце воплощенной в плоть и кровь и прикрепленной к земле. И в сердце, как пленная птица, Томится бескрылая песня. Муза поэта бесплотна, воздушна. Ее тайную красоту, ее эфирность и доступный для нее мир вечной красоты трудно выразить поэту земными словами. Поэтому у него из уст вырываются страстные желания. Ах, если бы сказаться душой было можно, так как сказаться душой невозможно, то на поэта находит грусть к недосказанности, непонятности его поэзии, он не мог выразить всего, что он чувствовал, и многие красивые мечты живут, как пленница, в тайнике его души и не выражены в желанных для поэта образах. Сожалея о них, поэт выражает грустное, тоскливое желание, чтобы: "Лета потопили его минутные мечты". Это желание поэта станет понятным для нас, когда мы узнаем его взгляд на назначение поэта. Поэта ласкает небо, оно только родное ему. И вдохновленный неземным величием он должен видеть красоту во всем. Ничто не должно туманить ясновидящий взор поэта, земное определение красоты не есть определение поэта, он представляет вечные красоты, поэт должен видеть отражение мировой красоты во всем, в том числе мимолетном и минувшем. Кроме того, поэт должен видеть красоту не только в том, что понятно всем людям, а должен чувствовать силу прекрасного и там, где люди не чувствуют этого. Даже незаметное, жалкое в природе тоже должно гореть вечным золотом в песнопении. Ст.поэтам "В ваших чертогах мой дух окрылился, Правду провидит он с высей творенья. Этот листок, что иссох и свалился, Золотом вечным горит в песнопении". Тот же самый взгляд выражен еще в другом стихе: Только пчела узнает в цветке затаенную сладость, Только художник во всем чует прекрасного след. Такие красоты сближают человека с миром, поэтому цель поэтов заключается в увековечении красоты. Поэт должен угадать сквозь покрывало, сквозь красивую оболочку, даже во всех переходящих явлениях отражение вечно сущего бытия. Тогда только станет понятным для него гармоническое величие красоты природы. И для поэта весьма значительна быстрая смена впечатлений, мимолетные мгновения и преходящие противоречия. Поэтому ему отвечает природа устами жизнерадостного создания, воплощенного мгновения - бабочки: Ты прав. Одним воздушным очертаньем Я так мила. Весь бархат с его живым миганьем - Лишь два крыла. Не спрашивай, откуда появилась, куда спешу; Здесь на цветок я легко опустилась - И вот дышу. Надолго ли, без цели, без усилья - Дышать хочу? - Вот-вот сейчас - сверкнув, раскину крылья - И улечу! Это стихотворение очень ярко отражает глубокую эстетичность природы творчества Фета. И в нем наиболее реально выражено живое чувство красоты и кипение живой жизни в поэзии Фета. Беззаветная преданность одной красоте и постоянное неугасающее [........] увлечение всем пленительной и прекрасной порой превращают поэта мгновения в поэта-мистика. Стихия природы захватывает и уносит его мечты в мир запредельный, потусторонний. Внимая пенью соловья в звездную ночь или созерцая сумерки, закаты, искренне стараясь постичь загадки бытия или следя за стрельчатой ласточкой над вечереющим прудом, он часто своей фантазией умчится к запретной чужой стихии: Природы праздник [.......]. Вот понеслись и [.......]. И страшно, чтобы [.......] Стихией чуждой не схватишь. Молитвенного крыла И снова то же дерзновенье, И та же темная струя Не таково ли вдохновение, И человеческого я? Не так ли я сосуд, скудельный, Дерзаю на запретный путь, Стихии чуждой, запредельной, Стремясь хоть каплю зачерпнуть. Это стремление к чуждой стихии насквозь пропитывает лирику природы в творчестве Фета, так что мистическую любовь к ней надо рассматривать как один из основных моментов его поэзии. Причем мистическое восприятие природы превращает всю красоту ее в таинственную музыку, в символ бесконечного, в бесконечно мерцающий волшебный призрак. Отсюда возникает особенность приемов, часто наблюдаемые в творчестве Фета, заключающиеся в воспроизведении главным образом своих впечатлений и ощущений, полученных от окружающей обстановки, а не воспроизведение отдельных реальных картин. Фет часто передает не самый звук, а его трепетное эхо. Описывает не лунное сияние, а отражение света на поверхности воды. Этот прием, присущий символической поэзии, впервые в русской литературе наиболее полнее представлен в поэзии Фета. Поэтому описание природы в устах его превращается в сплошную музыку, в утонченную нежную лирику. И особенно интимны и воздушны его весенние и летние песни и песни, посвященные далеким таинственно мерцающим звездам, с которыми думы поэта сливаются в мистическом трепете живой тканью фантазии, так часто отрываются от реального бытия и сливаясь в своих порывах с [ .......] стихии. Но будучи так таинственно влюблен в природу, Фет не в самой природе искал загадку духа. Прекрасное в природе есть только отражение тайной прелести бытия, отражение вечно сущего духа. Лирика природы для него как необходимый культ красоты и поэтому все явления ее воспринимает с чисто эстетической точки зрения. Спокойно созерцая природу всей области, поэт не имеет никаких требований к ней во имя принципов, лежащих вне ее. Он берет природу так как она есть, находит в себе большую близость к ней и, описывая ее, не прибегает к никаким искусственным олицетворениям, фальшивым одухотворениям, а имеет только одно простодушное стремление воспроизвести природу без тенденции улучшить, исправить и т. д. Поэтому очень часто его изображение природы отличается особенной простотой. Многие красивые моменты природы им фиксируются как отдельные самостоятельные образы и цельные темы и нанизываются один на другого для того, чтобы в игривых переливах дать музыкальную напевность его стихам и стройную символику его душевных переживаний и волнующих его дум. Ст. Буря на небе вечернем, Моря сердитого шум, Буря на море и думы, Много мучительных дум, Буря на море и думы, Хор возрастающих дум. Черная туча за тучей, Моря сердитого шум. Лирика любви у Фета тоже самое вытекает из культа красоты, но в ней нет кипучей страсти, рождаемой желанием земных наслаждений, скорее это поэтизированные миги мимолетных воспоминаний и художественно воспроизведенное чередование света и теней, вздохов и мгновений прошлого. Поэтому любовные песни Фета далеки от обычной чувственности, гораздо больше в них возвышенных бесплотных порываний, полных намеков и недосказанностей. Лирика любви, как и лирика природы, легка и искренна, она наполняет душу читателя не желанием страсти, а как музыкальные напевы, рождающие массу побочных дум, настроений и впечатлений. В них суть искры живой жизни, своим мерцанием заманивающие и уносящие в неизведанные дали мечты и фантазии. Всякая лирика Фета кроме сказанных свойств таит в себе и глубокий религиозно-философский смысл. Как сказано выше вскользь, мистически влюбленный в природу Фет хотя возвеличил в своей поэзии ее красоту, он все же свой идеал искал и видел не в самой природе, а в потусторонней тайне мироздания. Красота в природе есть только средство для общения фантазии устремленной в даль мысли поэта с сверхчувственным непостижимым миром. Стремление к этому последнему, стремление постичь и слиться с ним есть философский идеал поэта. В этих порывах он замкнут, одинок, он один только как вождь и жрец, ведущий за собой немеющую толиу к вожделенной двери. Он глубоко религиозен, полон благоговейным трепетом перед [.......], и его песня есть дар провидения, неземная молитва, ведущая к ясновиденью... Поэзия для Фета есть священнодействие и в момент творчества он подобен жрецу, приносящему жертву на алтарь. Его творчество не есть плод праздной фантазии, а исполнение религиозного обряда [.......], [ .......], трепет умиленного сердца, коленопреклоненного перед вечной красотой: "...Я по-прежнему смиренный, Забытый, кинутый в тени, Стою коленопреклоненный И, красотою умиленный, Зажег вечерние огни". Такова поэзия Фета, сущность которой при малейшем вдумчивом чтении очень ярко вырисовывается перед читателем не только от всей поэзии в целом, но даже от каждого малейшего осколка, маленького отрывка его стихов. Фет был подлинным, цельным представителем чистой поэзии. Он везде и всюду при всех моментах поэтического созерцания, вдохпоследнему, стремление постичь и слиться с ним есть философский идеал поэта. В этих порывах он замкнут, одинок, он один только как вождь и жрец, ведущий за собой немеющую толиу к вожделенной двери. Он глубоко религиозен, полон благоговейным трепетом перед [.......], и его песня есть дар провидения, неземная молитва, ведущая к ясновиденью... Хоругвь священную подъяв своей десной. Иду - И тронулась за мной толпа живая, И потянулись все по просеке лесной, И я блажен и горд святыню воспевая. Пою - и помыслам неведом детский страх: Пускай на пенье мне ответят воем звери, - С святыней над челом и песнью на устах, С трудом, но я дойду до вожделенной двери! Поэзия для Фета есть священнодействие и в момент творчества он подобен жрецу, приносящему жертву на алтарь. Его творчество не есть плод праздной фантазии, а исполнение религиозного обряда [.......], [.......], трепет умиленного сердца, коленопреклоненного перед вечной красотой: "...Я по-прежнему смиренный, Забытый, кинутый в тени, Стою коленопреклоненный И, красотою умиленный, Зажег вечерние огни". Чуждый идее служения обществу и имеющий чисто отвлеченные основы мироздания, Фет отбрасывает также из своего житейского определения нравственности с установленными понятиями о добре и зле. Для него в бессмертном мире самое бессмертное - есть индивидуальный мир человека, человеческое с его вдохновениями и прозрениями о сущности вещего. А вдохновение питается красотой и воспевает там, где ее находит. Будет ли это в мрачных или светлых областях в добре и зле, совершенно независимо от их нравственного содержания. Поэтому можно воспевать и красоту зла или порока. Потому что наше определение зла не есть бесспорное, безусловное определение. Чистое зло как таковое невозможно, это есть абсолютное небытие. А все, что воплощено в человеческом "Я", равноправно с Божественным творением. И с незапятнанных высот вдохновенья или чистого умозренья понятия добра и зла должны отпасть как могильный прах. Знание добра и зла необходимо земной воле, обреченной земными тяготами. Для художника нужна в ней только красота, потому что он должен быть в обоих областях одинаково свободным и независимым. Художник не должен быть порабощен человеку. Все влечения его души должны быть свободны и гармоничны. Таков резко выраженный индивидуализм поэта, отрицающий все условности внутри человеческого общества и противопоставляющий этим условностям свободное, независимое "Я" художника. Этот взгляд поэта наиболее ясно выражен в стих. "Добро и зло". Воспевая всюду только красоту, поэзия Фета как будто бы отражала в себе беспредельную жажду жизни и, казалось бы, что для нее совершенно чужд гимн смерти. Но поэт, мистик и пантеист, воспел и смерть так же вдохновенно, как воспевал раньше красоту. Смерть для него не страшна, потому что он без колебаний верит в продолжение жизни за гробом, верит в вечное бессмертие души, которая со смертью освободится от земных мук и освобожденная от тела легко и свободно сольется со всемирным бессмертием. Поэтому смерть есть только желанная ступень для поэта, чтобы перейти с земного лона на лоно вечности. Кончить земную жизнь, умереть, исчезнуть необходимо, как одно из эстетических свойств индивидуума. Таким образом философски хладнокровно примиренный с мыслью о смерти он намерен встретить ее с улыбкой, как необходимое счастье. Там, наконец, Я все, чего душа искала, Ждала, надеялась, на склоне лет найду. И с лона тихого земного идеала, На лоно вечности с улыбкой перейду. Такова поэзия Фета, сущность которой при малейшем вдумчивом чтении очень ярко вырисовывается перед читателем не только от всей поэзии в целом, но даже от каждого малейшего осколка, маленького отрывка его стихов. Фет был подлинным, цельным представителем чистой поэзии. Он везде и всюду при всех моментах поэтического созерцания, вдохновенных мечтаний умел остаться независимым, последовательным и беззаветным певцом красоты, певцом идей вечно сущего бытия, вдохновенным жрецом от чистой поэзии. Поэтому особенно ярко выразившая в его поэзии религиозно-мистическая струя, вытекающая из философского мировоззрения поэта и импрессионистически оформленные словесные мазки, звучащие особенной музыкальностью и изумительной проникновенностью в сокровенные тайны всего, чему обращен взор поэта в окружающем его мире, по справедливости приковали к себе внимание позднейших представителей чистого искусства, а именно целого поколения поэтов-символистов, которые приняли Фета как своего родоначальника, как предтечу и которые очень часто с умилением повторяли однажды вырвавшийся из уст Фета вздох: "О если бы сказаться душой было можно". И если, призывая историческую преемственность в развитии известных литературных явлений, говорить, что по линии чистой поэзии Фет восходит к Пушкину, то с той же уверенностью можно сказать, что позднейшие русские символисты точно так же восходят к Фету. Мухтар Ауезов
05.12.2012 13241 Комментарии
Поэзия чистого искусства
60-Х годов
Русская литература 50-х-60-х годов насчитывает несколько известных и ныне поэтов, составляющих плеяду жрецов чистого искусства. К ним относятся Тютчев, Алексей Толстой, Полонский, Майков и Фет. Все эти поэты в прошлом русской литературы восходят к Пушкину, который в большинстве своих юношеских стихотворений являлся теоретиком чистого искусства и указал впервые в русской литературе на значение поэта.
Не для житейского волнения.
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких молитв.
Это программа поэта, призыв к уходу в святыню поэзии, не считаться с требованиями толпы, с требованиями утилитаризма. Поэзия - самоцель для поэта, необходимо спокойное созерцание, замкнувшись от суетного мира, и углубиться в исключительный мир индивидуальных переживаний. Поэт свободен, независим от внешних условий. Назначение его идти туда, куда влечет свободный ум.
Дорогой свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум.
Он в самом тебе, ты сам свой высший суд,
Не требуя наград за подвиг благородный.
Свободное творчество есть подвиг поэта. И за этот благородный подвиг не нужно земных похвал. Не они определяют ценность поэзии. Есть высший суд, и ему только надлежит сказать, дать оценку поэзии, как сладкому звуку, как молитве. И этот высший суд внутри самого поэта. Так определит свободу творчества и индивидуальный мир поэта Пушкин в первый период своей творческой деятельности.
Вот эти поэтические лозунги и были заключены в основу творчества всех перечисленных выше поэтов чистого искусства. Также, как из позднейших произведений Пушкина вырастают реалисты, прозаики Тургенев, Достоевский, Толстой и другие. Точно так же, с другой стороны, романтизм Пушкина подготовил почву расцвету чистой поэзии и повлек за собою значительную группу поэтов-романтиков. Таким образом идея служения чистой поэзии не было явлением новым, возникшим только в период 50-х годов. Его корни находились в поэтическом наследстве прошлого. Причем, надо сказать, особенное тяготение позднейших поэтов к этой идее в 50-ые годы объясняется еще несколькими новыми историческими литературными факторами, возникшими в эти годы. Это развитие идеи утилитаризма в литературе. Русская общественная жизнь подвергалась сильнейшей ломке на переломе 50-х-60-х годов. И новые исторические ситуации - представшие после реформы в жизни русского общества, властно требуют переоценки многих ценностей, массового пересмотра и переучета всего, что накопилось от прошлого во всех отраслях жизни. Необходимость новой оценки, нового анализа, по новым [........] пройденного пути предстали и перед людьми, причастными к литературе. Кроме того, наряду с развивающимся либерализмом в умах передовых представителей в русской общественной мысли того времени усиливалась еще правительственная реакция, налагая на все свое вето неограниченного абсолютизма, та оценка общественной ценности в среде либералов и большой массы русской общественности происходила под исключительным знаком общественной значимости тех или иных явлений, в том числе их литературных произведений. Появляется и процветает общественная критика, отрицающая всякий идеализм и индивидуализм в творчестве, требующая общественной полезности литературных произведений и требующая служения коллективу. Противопоставление идеализму литературного рационализма. Стремление подчистить миру мечту.
Прежнему пониманию о назначении поэта как свободного жреца свободного искусства противопоставляют новое понимание о значении поэта как носителя гражданского долга, как поборника добра против всех общественных зол. Отсюда необходимость гражданских мотивов и усиления гражданской скорби, обличение социальной неправды, навязывание литературным произведениям определенных реальных общественных заданий. Причем наряду с усиливающейся общественной критикой появляются как результат новых веяний и как новое литературное явление, появляется новая поэзия, как поэзия Некрасова, всецело поглощенная идеей служения обществу, пропитанная насквозь духом народничества. Муза мести и печали, бичуя социальное зло, выбирает темы почти исключительно из жизни низов, отражает тяжелый быт крестьянства, находящегося под гнетом самодержавного бесправия, насилия и в темноте и невежестве. Поэт творит не для избранного округа образованных читателей, а старается сблизить поэзию к массам. Поэтому самого поэтический стиль снижает до уровня этой массы. Поэзия в лице Некрасова популяризирует идеологию народничества; стремление общественному долгу привносит в поэзию яркую общественно-политическую окраску, привносится тенденциозность в искусство. И эта тенденция в искусстве требовалась и оправдывалась не только общественной критикой того времени в лице Чернышевского, Добролюбова и других. Но того же самого требовали и все передовые представители читательских масс.
Но усиление этого народнического течения в литературе 50-х-60-х годов не могло увлечь за собою все силы общества и главным образом не могло увлечь всех поэтов и писателей. Среди последних появляются группы, не разделяющие идею утилитаризма и вместо него выставляющие во главу своей творческой деятельности самодовлеющую ценность искусства. Превозносящие поэзию как недоступную для масс святыню, где только художнику позволено постичь все тайны бытия, где для художника существует особый замкнутый мир, блаженный край, на ложе которого поэт должен забыть мирскую суету. Должен стать выше интересов толпы и с высоты творения беспристрастно созерцать все земное со всеми будничными интересами и всей житейской пошлостью. В этом миру поэт должен найти отдых от серой действительности. Если так, то поэты-утилитаристы не есть поэты, они торгаши словами, они осквернители божественного храма чистого искусства. Чистая поэзия высока, священна, для нее чужды земные интересы как со всеми одобрениями, хвалебными гимнами, так и порицаниями, поручениями и требованиями полезного для них. Такое понимание сущности и задачи поэзии, как отмечено выше, впервые было провозглашено Пушкиным и оно нашло живой отклик целого хора поэтов 50-60-х годов. Но появление последних совпало с природным усилением утилитаризма, и это появление было не случайное. Поэты - сторонники чистого искусства - сознательно пошли против усиленного течения своего времени. Это являлось сознательной реакцией против требований гражданского долга и против всех общественных требований. Они поэты-сектанты, отколовшиеся от остального общества, протестанты, ушедшие в боковые дорожки чистой поэзии во имя свободного творчества и во имя сохранения своего индивидуального облика свободных жрецов искусства. Поэтому темы их в большинстве светско-аристократически избранные. Поэзия для понимающих ее. Для избранного круга читателя. Отсюда преобладающая лирика любви, лирика природы, живой интерес и тяготение к классическим образцам, к античному миру (Майков А.Т.); поэзия мирового хаоса и мирового духа Тютчев; стремление ввысь, поэзия мгновения, непосредственного впечатления от видимого мира, мистическая любовь к природе и тайна мироздания. Поэзия вздохов и мимолетного ощущения. И чистая поэзия как гимн вечной красоты, вечному сиянию, златотканому покрову, вечно солнечному дню, звездной и лунной ночи. И во всем величии и красоте мироздания человек как необходимый звук в мировой гармонии, а песня, вырывающаяся из уст, томный звук струны, который вторит как эхо мировой симфонии. Причем поэзия чистого искусства как таковая различным образом представлена в творчестве каждого из этих поэтов. Сохраняя общие настроения, общие мотивы творчества и являясь вполне определенными представителями чистого искусства в оценке сущности и целей поэта, между ними все же необходимо различать и ту разницу, которая выражается в приемах творчества, главным образам в выбираемых темах, точно так же и в идейном содержании творчества. При таком подходе нетрудно установить существенную разницу между такими поэтами, как Фет, положа с одной стороны, и Тютчевым, Майковым и Толстым, с другой. Поэзия последних больше насыщена народным содержанием как идеал мирового христианского государства, основателем которого должны явиться славянские народы у Тютчева, или сознательное тяготение и подражание античными образам у Майкова, активно полемические тенденции как поборника чистого искусства Л.Толстого - все это в целом можно отметить как моменты усиления идейности содержания и как известные тенденциозные предпосылки умозрительного порядка в творчестве поэтов чистого искусства. Эти моменты надо рассматривать как некоторое отступление от основного свойства чистой поэзии, источником которого является в большинстве случаев мир подсознательного, мир впечатлений и мир кажущегося вдохновенному взору поэта-мистика и пантеиста. И в числе поэтов 60-х годов есть такой поэт, который является наиболее ярким, типичным представителем подлинной чистой поэзии, и таковым является Афанасий Афанасиевич Фет, на творчестве которого остановимся как на наиболее ярко отражающем облик чистой поэзии 60-х годов. Поэзия для Фета, как для всех поэтов чистого искусства, самоценна, ее цели и задачи определены внутри самой поэзии, причем основная ее цель не снисходить, а возвышать. Его поэзии присуща исключительная чистота и духовность, но действий в ней нет. Вместо действий один порывается ввысь, вспыхивающие мысли, вздохи души и масса впечатлений [........] радости и печали. Поэт - единственный ценитель мировой красоты. Тоска земли не омрачит его фантазию.
"Горная высь"
"Твоя судьба - на гранях мира
Не снисходить, а возвышать.
Не тронет вздох тебя бессильный,
Не омрачит земли тоска:
У ног твоих, как дым кадильный,
Вияся тают облака", (июль 1886)
Так далек поэт от всего земного. Его внутренний мир и его проникновенность в тайны мироздания так цельны и так утонченно проницательны, что сожалеет о своей песне, которой присущи вечные благородные порывы за пределы земного, но которому суждено быть пленной птицей в беспомощном сердце воплощенной в плоть и кровь и прикрепленной к земле.
И в сердце, как пленная птица,
Томится бескрылая песня.
Муза поэта бесплотна, воздушна. Ее тайную красоту, ее эфирность и доступный для нее мир вечной красоты трудно выразить поэту земными словами. Поэтому у него из уст вырываются страстные желания. Ах, если бы сказаться душой было можно, так как сказаться душой невозможно, то на поэта находит грусть к недосказанности, непонятности его поэзии, он не мог выразить всего, что он чувствовал, и многие красивые мечты живут, как пленница, в тайнике его души и не выражены в желанных для поэта образах. Сожалея о них, поэт выражает грустное, тоскливое желание, чтобы: "Лета потопили его минутные мечты". Это желание поэта станет понятным для нас, когда мы узнаем его взгляд на назначение поэта. Поэта ласкает небо, оно только родное ему. И вдохновленный неземным величием он должен видеть красоту во всем. Ничто не должно туманить ясновидящий взор поэта, земное определение красоты не есть определение поэта, он представляет вечные красоты, поэт должен видеть отражение мировой красоты во всем, в том числе мимолетном и минувшем. Кроме того, поэт должен видеть красоту не только в том, что понятно всем людям, а должен чувствовать силу прекрасного и там, где люди не чувствуют этого. Даже незаметное, жалкое в природе тоже должно гореть вечным золотом в песнопении.
Ст.поэтам
"В ваших чертогах мой дух окрылился,
Правду провидит он с высей творенья.
Этот листок, что иссох и свалился,
Золотом вечным горит в песнопении".
Тот же самый взгляд выражен еще в другом стихе:
Только пчела узнает в цветке затаенную сладость,
Только художник во всем чует прекрасного след.
Такие красоты сближают человека с миром, поэтому цель поэтов заключается в увековечении красоты. Поэт должен угадать сквозь покрывало, сквозь красивую оболочку, даже во всех переходящих явлениях отражение вечно сущего бытия. Тогда только станет понятным для него гармоническое величие красоты природы. И для поэта весьма значительна быстрая смена впечатлений, мимолетные мгновения и преходящие противоречия. Поэтому ему отвечает природа устами жизнерадостного создания, воплощенного мгновения - бабочки:
Ты прав. Одним воздушным очертаньем
Я так мила.
Весь бархат с его живым миганьем - Лишь два крыла.
Не спрашивай, откуда появилась, куда спешу;
Здесь на цветок я легко опустилась - И вот дышу.
Надолго ли, без цели, без усилья - Дышать хочу? -
Вот-вот сейчас - сверкнув, раскину крылья -
Это стихотворение очень ярко отражает глубокую эстетичность природы творчества Фета. И в нем наиболее реально выражено живое чувство красоты и кипение живой жизни в поэзии Фета.
Беззаветная преданность одной красоте и постоянное неугасающее [........] увлечение всем пленительной и прекрасной порой превращают поэта мгновения в поэта-мистика. Стихия природы захватывает и уносит его мечты в мир запредельный, потусторонний. Внимая пенью соловья в звездную ночь или созерцая сумерки, закаты, искренне стараясь постичь загадки бытия или следя за стрельчатой ласточкой над вечереющим прудом, он часто своей фантазией умчится к запретной чужой стихии:
Природы праздник [.......].
Вот понеслись и [.......].
И страшно, чтобы [.......]
Стихией чуждой не схватишь.
Молитвенного крыла
И снова то же дерзновенье,
И та же темная струя
Не таково ли вдохновение,
И человеческого я?
Не так ли я сосуд, скудельный,
Дерзаю на запретный путь,
Стихии чуждой, запредельной,
Стремясь хоть каплю зачерпнуть.
Это стремление к чуждой стихии насквозь пропитывает лирику природы в творчестве Фета, так что мистическую любовь к ней надо рассматривать как один из основных моментов его поэзии. Причем мистическое восприятие природы превращает всю красоту ее в таинственную музыку, в символ бесконечного, в бесконечно мерцающий волшебный призрак. Отсюда возникает особенность приемов, часто наблюдаемые в творчестве Фета, заключающиеся в воспроизведении главным образом своих впечатлений и ощущений, полученных от окружающей обстановки, а не воспроизведение отдельных реальных картин. Фет часто передает не самый звук, а его трепетное эхо. Описывает не лунное сияние, а отражение света на поверхности воды. Этот прием, присущий символической поэзии, впервые в русской литературе наиболее полнее представлен в поэзии Фета. Поэтому описание природы в устах его превращается в сплошную музыку, в утонченную нежную лирику. И особенно интимны и воздушны его весенние и летние песни и песни, посвященные далеким таинственно мерцающим звездам, с которыми думы поэта сливаются в мистическом трепете живой тканью фантазии, так часто отрываются от реального бытия и сливаясь в своих порывах с [ .......] стихии. Но будучи так таинственно влюблен в природу, Фет не в самой природе искал загадку духа. Прекрасное в природе есть только отражение тайной прелести бытия, отражение вечно сущего духа. Лирика природы для него как необходимый культ красоты и поэтому все явления ее воспринимает с чисто эстетической точки зрения. Спокойно созерцая природу всей области, поэт не имеет никаких требований к ней во имя принципов, лежащих вне ее. Он берет природу так как она есть, находит в себе большую близость к ней и, описывая ее, не прибегает к никаким искусственным олицетворениям, фальшивым одухотворениям, а имеет только одно простодушное стремление воспроизвести природу без тенденции улучшить, исправить и т. д. Поэтому очень часто его изображение природы отличается особенной простотой. Многие красивые моменты природы им фиксируются как отдельные самостоятельные образы и цельные темы и нанизываются один на другого для того, чтобы в игривых переливах дать музыкальную напевность его стихам и стройную символику его душевных переживаний и волнующих его дум. Ст.
Буря на небе вечернем,
Моря сердитого шум,
Буря на море и думы,
Много мучительных дум,
Буря на море и думы,
Хор возрастающих дум.
Черная туча за тучей,
Моря сердитого шум.
Лирика любви у Фета тоже самое вытекает из культа красоты, но в ней нет кипучей страсти, рождаемой желанием земных наслаждений, скорее это поэтизированные миги мимолетных воспоминаний и художественно воспроизведенное чередование света и теней, вздохов и мгновений прошлого. Поэтому любовные песни Фета далеки от обычной чувственности, гораздо больше в них возвышенных бесплотных порываний, полных намеков и недосказанностей. Лирика любви, как и лирика природы, легка и искренна, она наполняет душу читателя не желанием страсти, а как музыкальные напевы, рождающие массу побочных дум, настроений и впечатлений.
В них суть искры живой жизни, своим мерцанием заманивающие и уносящие в неизведанные дали мечты и фантазии.
Всякая лирика Фета кроме сказанных свойств таит в себе и глубокий религиозно-философский смысл. Как сказано выше вскользь, мистически влюбленный в природу Фет хотя возвеличил в своей поэзии ее красоту, он все же свой идеал искал и видел не в самой природе, а в потусторонней тайне мироздания. Красота в природе есть только средство для общения фантазии устремленной в даль мысли поэта с сверхчувственным непостижимым миром. Стремление к этому последнему, стремление постичь и слиться с ним есть философский идеал поэта. В этих порывах он замкнут, одинок, он один только как вождь и жрец, ведущий за собой немеющую толиу к вожделенной двери. Он глубоко религиозен, полон благоговейным трепетом перед [.......], и его песня есть дар провидения, неземная молитва, ведущая к ясновиденью...
Хоругвь священную подъяв своей десной.
Иду - И тронулась за мной толпа живая,
И потянулись все по просеке лесной,
И я блажен и горд святыню воспевая.
Пою - и помыслам неведом детский страх:
Пускай на пенье мне ответят воем звери, -
С святыней над челом и песнью на устах,
С трудом, но я дойду до вожделенной двери!
Поэзия для Фета есть священнодействие и в момент творчества он подобен жрецу, приносящему жертву на алтарь. Его творчество не есть плод праздной фантазии, а исполнение религиозного обряда [.......], [ .......], трепет умиленного сердца, коленопреклоненного перед вечной красотой:
"...Я по-прежнему смиренный,
Забытый, кинутый в тени,
Стою коленопреклоненный
И, красотою умиленный,
Зажег вечерние огни".
Чуждый идее служения обществу и имеющий чисто отвлеченные основы мироздания, Фет отбрасывает также из своего житейского определения нравственности с установленными понятиями о добре и зле. Для него в бессмертном мире самое бессмертное - есть индивидуальный мир человека, человеческое с его вдохновениями и прозрениями о сущности вещего. А вдохновение питается красотой и воспевает там, где ее находит. Будет ли это в мрачных или светлых областях в добре и зле, совершенно независимо от их нравственного содержания. Поэтому можно воспевать и красоту зла или порока. Потому что наше определение зла не есть бесспорное, безусловное определение. Чистое зло как таковое невозможно, это есть абсолютное небытие. А все, что воплощено в человеческом "Я", равноправно с Божественным творением. И с незапятнанных высот вдохновенья или чистого умозренья понятия добра и зла должны отпасть как могильный прах. Знание добра и зла необходимо земной воле, обреченной земными тяготами. Для художника нужна в ней только красота, потому что он должен быть в обоих областях одинаково свободным и независимым. Художник не должен быть порабощен человеку. Все влечения его души должны быть свободны и гармоничны. Таков резко выраженный индивидуализм поэта, отрицающий все условности внутри человеческого общества и противопоставляющий этим условностям свободное, независимое "Я" художника. Этот взгляд поэта наиболее ясно выражен в стих. "Добро и зло".
Воспевая всюду только красоту, поэзия Фета как будто бы отражала в себе беспредельную жажду жизни и, казалось бы, что для нее совершенно чужд гимн смерти. Но поэт, мистик и пантеист, воспел и смерть так же вдохновенно, как воспевал раньше красоту. Смерть для него не страшна, потому что он без колебаний верит в продолжение жизни за гробом, верит в вечное бессмертие души, которая со смертью освободится от земных мук и освобожденная от тела легко и свободно сольется со всемирным бессмертием. Поэтому смерть есть только желанная ступень для поэта, чтобы перейти с земного лона на лоно вечности. Кончить земную жизнь, умереть, исчезнуть необходимо, как одно из эстетических свойств индивидуума. Таким образом философски хладнокровно примиренный с мыслью о смерти он намерен встретить ее с улыбкой, как необходимое счастье.
Там, наконец, Я все, чего душа искала,
Ждала, надеялась, на склоне лет найду.
И с лона тихого земного идеала,
На лоно вечности с улыбкой перейду.
Такова поэзия Фета, сущность которой при малейшем вдумчивом чтении очень ярко вырисовывается перед читателем не только от всей поэзии в целом, но даже от каждого малейшего осколка, маленького отрывка его стихов. Фет был подлинным, цельным представителем чистой поэзии. Он везде и всюду при всех моментах поэтического созерцания, вдохпоследнему, стремление постичь и слиться с ним есть философский идеал поэта. В этих порывах он замкнут, одинок, он один только как вождь и жрец, ведущий за собой немеющую толиу к вожделенной двери. Он глубоко религиозен, полон благоговейным трепетом перед [.......], и его песня есть дар провидения, неземная молитва, ведущая к ясновиденью...
Хоругвь священную подъяв своей десной.
Иду - И тронулась за мной толпа живая,
И потянулись все по просеке лесной,
И я блажен и горд святыню воспевая.
Пою - и помыслам неведом детский страх:
Пускай на пенье мне ответят воем звери, -
С святыней над челом и песнью на устах,
С трудом, но я дойду до вожделенной двери!
Поэзия для Фета есть священнодействие и в момент творчества он подобен жрецу, приносящему жертву на алтарь. Его творчество не есть плод праздной фантазии, а исполнение религиозного обряда [.......], [.......], трепет умиленного сердца, коленопреклоненного перед вечной красотой:
"...Я по-прежнему смиренный,
Забытый, кинутый в тени,
Стою коленопреклоненный
И, красотою умиленный,
Зажег вечерние огни".
Чуждый идее служения обществу и имеющий чисто отвлеченные основы мироздания, Фет отбрасывает также из своего житейского определения нравственности с установленными понятиями о добре и зле. Для него в бессмертном мире самое бессмертное - есть индивидуальный мир человека, человеческое с его вдохновениями и прозрениями о сущности вещего. А вдохновение питается красотой и воспевает там, где ее находит. Будет ли это в мрачных или светлых областях в добре и зле, совершенно независимо от их нравственного содержания. Поэтому можно воспевать и красоту зла или порока. Потому что наше определение зла не есть бесспорное, безусловное определение. Чистое зло как таковое невозможно, это есть абсолютное небытие. А все, что воплощено в человеческом "Я", равноправно с Божественным творением. И с незапятнанных высот вдохновенья или чистого умозренья понятия добра и зла должны отпасть как могильный прах. Знание добра и зла необходимо земной воле, обреченной земными тяготами. Для художника нужна в ней только красота, потому что он должен быть в обоих областях одинаково свободным и независимым. Художник не должен быть порабощен человеку. Все влечения его души должны быть свободны и гармоничны. Таков резко выраженный индивидуализм поэта, отрицающий все условности внутри человеческого общества и противопоставляющий этим условностям свободное, независимое "Я" художника. Этот взгляд поэта наиболее ясно выражен в стих. "Добро и зло".
Воспевая всюду только красоту, поэзия Фета как будто бы отражала в себе беспредельную жажду жизни и, казалось бы, что для нее совершенно чужд гимн смерти. Но поэт, мистик и пантеист, воспел и смерть так же вдохновенно, как воспевал раньше красоту. Смерть для него не страшна, потому что он без колебаний верит в продолжение жизни за гробом, верит в вечное бессмертие души, которая со смертью освободится от земных мук и освобожденная от тела легко и свободно сольется со всемирным бессмертием. Поэтому смерть есть только желанная ступень для поэта, чтобы перейти с земного лона на лоно вечности. Кончить земную жизнь, умереть, исчезнуть необходимо, как одно из эстетических свойств индивидуума. Таким образом философски хладнокровно примиренный с мыслью о смерти он намерен встретить ее с улыбкой, как необходимое счастье.
Там, наконец, Я все, чего душа искала,
Ждала, надеялась, на склоне лет найду.
И с лона тихого земного идеала,
На лоно вечности с улыбкой перейду.
Такова поэзия Фета, сущность которой при малейшем вдумчивом чтении очень ярко вырисовывается перед читателем не только от всей поэзии в целом, но даже от каждого малейшего осколка, маленького отрывка его стихов. Фет был подлинным, цельным представителем чистой поэзии. Он везде и всюду при всех моментах поэтического созерцания, вдохновенных мечтаний умел остаться независимым, последовательным и беззаветным певцом красоты, певцом идей вечно сущего бытия, вдохновенным жрецом от чистой поэзии. Поэтому особенно ярко выразившая в его поэзии религиозно-мистическая струя, вытекающая из философского мировоззрения поэта и импрессионистически оформленные словесные мазки, звучащие особенной музыкальностью и изумительной проникновенностью в сокровенные тайны всего, чему обращен взор поэта в окружающем его мире, по справедливости приковали к себе внимание позднейших представителей чистого искусства, а именно целого поколения поэтов-символистов, которые приняли Фета как своего родоначальника, как предтечу и которые очень часто с умилением повторяли однажды вырвавшийся из уст Фета вздох: "О если бы сказаться душой было можно". И если, призывая историческую преемственность в развитии известных литературных явлений, говорить, что по линии чистой поэзии Фет восходит к Пушкину, то с той же уверенностью можно сказать, что позднейшие русские символисты точно так же восходят к Фету.
Мухтар Ауезов
«Чистое искусство» (или «искусство для искусства», или «эстетическая критика»), направление в русской литературе и критике 50-60-х ХIХ в., которое характеризуется углубленным вниманием к духовно-эстетическим особенностям литературы как вида искусства, имеющим Божественный источник Добра, Любви и Красоты. Традиционно это направление связывают с именами А. В. Дружинина, В. П. Боткина, П. В. Анненкова, С. С. Дудышкина. Из поэтов позиции «чистого искусства» разделяли А. А. Фет, А. Н. Майков, Н. Ф. Щербина. Главой школы был А. В. Дружинин. В своих литературных оценках критики разрабатывали не только понятия прекрасного, собственно эстетического, но и категории нравственно-философского, а подчас и социального порядка. У словосочетания «чистое искусство» был еще один смысл - «чистое» в значении совершенного, идеального, абсолютно художественного. Чистое - это, прежде всего, духовно наполненное, сильное по способам самовыражения искусство. Позиция сторонников «чистого искусства» заключалась не в том, чтобы оторвать искусство от жизни, а в том, чтобы защитить его подлинно творческие принципы, поэтическое своеобразие и чистоту его идеалов. Они стремились не к изоляции от общественной жизни (это невозможно осуществить никому), а к творческой свободе во имя утверждения принципов совершенного идеала искусства, «чистого», значит, независимого от мелочных нужд и политических пристрастий. Напр., Боткин говорил об искусстве как искусстве, вкладывая в это выражение весь комплекс понятий, относящихся к свободному от социального заказа и совершенному по своему уровню творчеству. Эстетическое - только компонент, хотя и чрезвычайно важный, в системе представлений о подлинном искусстве. Анненков чаще, чем Боткин, выступал с критическими статьями. Ему принадлежит свыше двух десятков объемных статей и рецензий, фундаментальный труд «Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина» и, пожалуй, самые богатые в мемуаристике XIX в. «Литературные воспоминания». Важным пунктом в эстетических воззрениях Анненкова был вопрос о художественности искусства. Анненков не отрицает «влияния» искусства на общество, но считает это возможным при условии подлинной художественности . И выражение «чистое» означает здесь не изоляцию искусства от насущных запросов общественной жизни, а совершенство его качества, причем - не только по линии формы, но и содержания. Дружинин основывал свои суждения об искусстве на трех, важнейших с точки зрения его эстетической системы положениях: 1) Искусство - высшая степень проявления человеческого духа, имеющего Божественный источник, в которой очень сложно и специфично сочетается «идеальное» и «реальное»; 2) Искусство имеет дело с общезначимым, раскрывая его, однако, через «внутренний» мир отдельного человека и даже «частности» посредством красоты, прекрасных (при наличии идеала) образов; 3) Стимулируя устремления человека к идеалу, искусство и литература не могут, однако, подчинить себя общественному прагматизму до такой степени, чтобы утратить свое главное преимущество - оставаться источником нравственного преображения, средством приобщения человека к высшим и вечным ценностям духовного бытия.
2. Основные темы поэзии «чистого искусства»
Русская литература 50-х-60-х годов насчитывает несколько известных и ныне поэтов, составляющих плеяду жрецов чистого искусства. К ним относятся Тютчев, Алексей Толстой, Полонский, Майков и Фет. Все эти поэты в прошлом русской литературы восходят к Пушкину, который в большинстве своих юношеских стихотворений являлся теоретиком чистого искусства и указал впервые в русской литературе на значение поэта.
Поэзия - самоцель для поэта, необходимо спокойное созерцание, замкнувшись от суетного мира, и углубиться в исключительный мир индивидуальных переживаний. Поэт свободен, независим от внешних условий. Назначение его идти туда, куда влечет свободный ум. Свободное творчество есть подвиг поэта. И за этот благородный подвиг не нужно земных похвал. Не они определяют ценность поэзии. Есть высший суд, и ему только надлежит сказать, дать оценку поэзии, как сладкому звуку, как молитве. И этот высший суд внутри самого поэта. Так определит свободу творчества и индивидуальный мир поэта Пушкин в первый период своей творческой деятельности.
Чистая поэзия высока, священна, для нее чужды земные интересы как со всеми одобрениями, хвалебными гимнами, так и порицаниями, поручениями и требованиями полезного для них. Поэты - сторонники чистого искусства - сознательно пошли против усиленного течения своего времени. Это являлось сознательной реакцией против требований гражданского долга и против всех общественных требований. Поэтому темы их в большинстве светско-аристократически избранные. Поэзия избранного круга читателя. Отсюда преобладающая лирика любви, лирика природы, живой интерес и тяготение к классическим образцам, к античному миру (Майков А.Т.); поэзия мирового хаоса и мирового духа Тютчев; стремление ввысь, поэзия мгновения, непосредственного впечатления от видимого мира, мистическая любовь к природе и тайна мироздания.
Одновременно для всех этих поэтов типично полное равнодушие к господствовавшим в тогдашней общественной жизни революционным и либеральным тенденциям . Глубоко закономерен тот факт, что в их произведениях мы не найдем ни одной из популярных в 40-50-х гг. тем - обличение феодально-полицейского режима в различных его сторонах, борьба с крепостным правом, защита эмансипации женщин, проблема лишних людей и т. п. не интересуют этих поэтов, занятых так наз. «вечными» темами - любованием природой, изображением любви, подражанием древним и т. д.
У этих поэтов были в мировой поэзии свои учителя; в современной поэзии ими по преимуществу являлись немецкие романтики, близкие им по своему политическому и эстетическому пассеизму. В не меньшей мере поэтам «чистого искусства» была близка и античная литература, творчество Анакреона, Горация, Тибулла, Овидия.
Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева «О, как убийственно мы любим...»
«О, как убийственно мы любим...» (1851) - 3е стих-е «денисьевского» цикла, то есть цикла любовной лирики, состоящего из пятнадцати стихотворений, посвященных Елене Александровне Денисьевой. Это стихотворение (оно состоит из десяти строф) наиболее полно выражает тютчевское представление о любви как о «встрече роковой», как о «судьбы ужасном приговоре». «В буйной слепоте страстей» любимый человек разрушает радость и очарование любви: «Мы то всего вернее губим, / Что сердцу нашему милей!»
Ф. И. Тютчев ставит здесь сложную проблему вины человека, нарушившего во имя любви законы света - законы фальши и лжи. Психологический анализ Ф. И. Тютчева в поздней лирике неотделим от этики, от требований писателя к себе и к другим. В «денисьевском» цикле он и отдается собственному чувству, и в то же время проверяет, анализирует его - в чем правда, в чем ложь, в чем заблуждение и даже преступление. Это проявляется часто в самом лирическом высказывании: в некоторой неуверенности в себе и своей правоте. Вина «его» определена уже в первой строчке: «как убийственно мы любим», хотя в самом общем и отвлеченном смысле. Кое- что проясняют «буйная слепота страстей» и их губительность.
«Она» - жертва, но не только и не столько эгоистической и слепой страсти возлюбленного, сколько этического «беззакония» своей любви с точки зрения светской морали; защитником этой узаконенной морали у Ф. И. Тютчева выступает толпа: «Толпа, нахлынув, в грязь втоптала / То, что в душе ее цвело. / И что ж от долгого мученья, / Как пепл, сберечь ей удалось? / Боль, злую боль ожесточенья, / Боль без отрады и без слез!» Эти десять четверостиший созвучны с историей Анны Карениной, которая у Л. Н. Толстого развернута в обширное романное повествование.
Таким образом, в «борьбе неравной двух сердец» нежнее оказывается сердце женщины, а потому именно оно неизбежно должно «изныть» и зачахнуть, погибнуть в «поединке роковом». Общественная мораль проникает и в личные отношения. По законам общества он - сильный, она - слабая, и он не в силах отказаться от своих преимуществ. Он ведет борьбу с собой, но и с ней тоже. В этом «роковой» смысл их отношений, их самоотверженной любви. «В денисьевском цикле, - пишет Н. Берковский, - любовь несчастна в самом ее счастье, герои любят и в самой любви остаются недругами».
В конце Тютчев повторяет первый катрен. Повторяет его с удвоенной горечью, виня в очередной раз себя за то, что его любовь стала для нее жизнью отреченья и страданья. Он повторяет с паузой, будто отдыхиваясь от так стремительно набежавших чувств. Тютчев в последний раз вспоминает розы ее ланит, улыбку уст и блеск очей, ее волшебный взор и речи, младенчески живой смех; в последний раз подводит черту случившемуся. Одновременно повтором первого четверостишия Тютчев показывает, что все повторяется: каждая его новая любовь проходит через подобные трудности, и это является замкнутым кругом в его жизни и никак он не может этот круг разорвать.
Тютчев пишет пятистопным хореем и перекрестной рифмой, что влияет на плавность стихотворения, а значит и на плавность мыслей автора. Так же Тютчев не забывает об одической традиции XVIII века: он использует архаизмы (ланиты, очи, отрада, отреченье, взор), в первой же строчке присутствует междометие «О», которое всегда было неотъемлемой частью од, чувствуется некий пророческий пафос: Тютчев будто говорит, что все это ждет любого «неаккуратно» влюбившегося человека.
Как бы то ни было, «последняя любовь» Ф. И. Тютчева, как и все его творчество, обогатила русскую поэзию стихами необыкновенной лирической силы и духовного откровения.
Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева «Silentium!»
Вряд ли какое-либо другое произведение Федора Ивановича Тютчева (1803-1873) подвергалось такому множеству противоречивых интерпретаций, как его гениальное стихотворение «Silentium!» («Молчание!») (не позднее 1830 года). Стихотворение «Silentium!» было написано в 1830 году четырехстопным ямбом. Стихотворение состоит из 18 строк, разделенных на три шестистишия, каждое из которых относительно самостоятельно и в смысловом, и в интонационно-синтаксическом отношениях. Связь этих трех частей - только в развитии лирической темы. Из формальных средств в качестве скрепляющего эти три части начала можно отметить однородные концевые рифмы - точные, сильные, мужские, ударные - и рифмуемые ими последние в каждом из трех шестистиший строки. Главное, что соединяет все три части в художественное целое, - интонация, ораторская, дидактическая, убеждающая, призывная и приказывающая. «Молчи, скрывайся и таи», - непререкаемое повеление первой же строки повторяется еще трижды, во всех трех шестистишиях. Первая строфа - энергичное убеждение, приказ, волевой напор.
Во второй строфе энергия напора, диктата ослабевает, она уступает интонации убеждения, смысл которого в том, чтобы разъяснить решительные указания первой строфы: почему чувства и мечты должны таиться в глубине души? Идет цепочка доказательств: «Как сердцу высказать себя? / Другому как понять тебя? / Поймет ли он, чем ты живешь? / Мысль изреченная есть ложь». Речь идет о коммуникабельности, о возможности одного человека передать другому не свои мысли - это легче, - а жизнь своей души, своего сознания и подсознания, своего духа, - того, что не сводится к разуму, а гораздо шире и тоньше. Чувство, оформленное в мысль словом, будет заведомо неполным, а значит, ложным. Недостаточным, ложным будет и понимание тебя другим. Пытаясь рассказать жизнь своей души, свои чувства, ты только все испортишь, не достигнув цели; ты только встревожишь себя, нарушишь цельность и покой своей внутренней жизни: «Взрывая, возмутишь ключи, - / Питайся ими - и молчи».
В первой строке третьей строфы содержится предостережение о той опасности, которую несет в себе сама возможность соприкосновения двух несовместимых сфер - внутренней и внешней жизни: «Лишь жить в себе самом умей...». Это возможно: «Есть целый мир в душе твоей / Таинственно-волшебных дум; / Их оглушит наружный шум,/ Дневные разгонят лучи». «Таинственно-волшебные думы» возвращают мысль к первой строфе, так как они аналогичны «чувствам и мечтам», которые, как живые существа, «и встают, и заходят», - то есть это не мысли, это мечтания, ощущения, оттенки душевных состояний, в совокупности своей составляющие живую жизнь сердца и души. Их-то и может «оглушить» «наружный шум», разогнать «дневные» «лучи» - вся сумятица «дневной» житейской суеты. Поэтому и нужнб беречь их в глубине души; лишь там они сохраняют свою гармонию, строй, согласное «пенье»: «Внимай их пенью - и молчи!»
21. Романтический образ и реалистическая деталь в поэзии Фета.
определённую традицию романтической поэзии «поэзии намёков». Невыразимое – это лишь тема поэзии Фета, но никак не свойство её стиля художественном мире Фета искусство, любовь, природа, философия, Бог – все это разные проявления одной и той же творческой силы – красоты.А. Фет увлекался немецкой философией; взгляды философов-идеалистов, особенно Шопенгауэра, оказали сильное влияние на мировоззрение начинающего поэта, что сказалось в романтической идее двоемирия, нашедшей своё выражение в лирике Фета.
Творчество Фета характеризуется стремлением уйти от повседневной действительности в «светлое царство мечты». Основное содержание его поэзии - любовь иприрода. Стихотворения его отличаются тонкостью поэтического настроения и большим художественным мастерством . Особенность поэтики Фета - разговор о самом важном ограничивается прозрачным намёком . Самый яркий пример - стихотворение «Шёпот, робкое дыханье…»
Фет - представитель так называемой чистой поэзии. В связи с этим на протяжении всей жизни он спорил с Н. А. Некрасовым - представителем социальной поэзии.
С пейзажной лирикой А.А. Фета неразрывно связана тема любви. Любовная лирика Фета отличается эмоциональным богатством, в ней соседствуют радость и трагические ноты, чувство окрылённости и ощущение безысходности. Центром мира для лирического героя является возлюбленная. («Шёпот, робкое дыханье», «На заре ты её не буди», «Ещё люблю, ещё томлюсь…» и др.). Прототипом лирической героини Фета была дочь сербского помещика Мария Лазич. Память о трагически ушедшей возлюбленной Фет хранил всю жизнь. Она присутствует в его любовной лирике как прекрасный романтический образ-воспоминание, светлый «ангел кротости и грусти». Лирическая героиня спасает поэта от житейской суеты («Как гений ты, нежданный, стройный, / С небес слетела мне светла, / Смирила ум мой беспокойный…»).
Эмоциональное состояние лирического «я» стихотворений Фета тоже не имеет ни четкой внешней (социальной, культурно-бытовой), ни внутренней биографии и вряд ли может быть обозначено привычным термином лирический герой.
О чем бы ни писал Фет - доминирующим состоянием его лирического «я» всегда будут восторг и преклонение перед неисчерпаемостью мира и человека , умение ощутить и пережить увиденное как бы впервые, свежим, только что родившимся чувством. (стихотворение «Я жду», 1842) Можно подумать, что герой ждет возлюбленную, однако эмоциональное состояние лирического «я» у Фета всегда шире повода, его вызвавшего. И вот на глазах читателя трепетное ожидание близкого свидания перерастает в трепетное же наслаждение прекрасными мгновениями бытия. В результате создается впечатление нарочитой фрагментарности, оборванности сюжета стихотворения.
А. А. Фет остро чувствует красоту и гармонию природы в ее мимолетности и изменчивости . В его пейзажной лирике много мельчайших подробностей реальной жизни природы, которым соответствуют разнообразнейшие проявления душевных переживаний лирического героя. Например, в стихотворении «Еще майская ночь» прелесть весенней ночи порождает в герое состояние взволнованности, ожидания, томления, непроизвольности выражения чувств:
Какая ночь! Все звезды до единой
Тепло и кротко в душу смотрят вновь,
И в воздухе за песней соловьиной
Разносится тревога и любовь.
В каждой строфе этого стихотворения диалектически сочетаются два противоположных понятия, которые находятся в состоянии вечной борьбы, вызывая каждый раз новое настроение. Так, в начале стихотворения холодный север, «царство льдов» не только противопоставляется теплой весне, но и порождает ее. А затем вновь возникают два полюса: на одном тепло и кротость, а на другом - «тревога и любовь», то есть состояние беспокойства, ожидания, смутных предчувствий.
Еще более сложная ассоциативная контрастность явлений природы и человеческого ее восприятия отразилась в стихотворении «Ярким солнцем в лесу полыхает костер». Здесь нарисована реальная, зримая картина, в которой яркие краски предельно контрастны: красный полыхающий огонь и черный уголь. Но, помимо этого бросающегося в глаза контраста, в стихотворении есть и другой, более сложный. Темной ночью пейзаж ярок и красочен:
Ярким солнцем в лесу пламенеет костер,
И, сжимаясь, трещит можжевельник,
Точно пьяных гигантов столпившийся хор,
Раскрасневшись, шатается ельник.
Пожалуй, самым фетовским стихотворением, отображающим его творческую индивидуальность, является «Шепот, робкое дыханье...» Оно поразило современников поэта и до сих пор продолжает восхищать и очаровывать новые поколения читателей своей психологической насыщенностью при максимальном лаконизме выразительных средств. В нем полностью отсутствует событийность, усиленная безглагольным перечислением чересчур личных впечатлений. Однако каждое выражение здесь стало картиной; при отсутствии действия налицо внутреннее движение. И заключается оно в смысловом композиционном развитии лирической темы. Сначала это первые неброские детали ночного мира:
Шепот, робкое дыханье, Трели соловья,/ Серебро и колыханье/ Сонного ручья...
Затем в поле зрения поэта попадают более дальние крупные детали, более обобщенные и неопределенные, туманные и расплывчатые:
Свет ночной, ночные тени,/ Тени без конца,/ Ряд волшебных изменений/ Милого лица.
В заключительных строчках и конкретные, и обобщенные образы природы сливаются, образуя огромное целое - небо, охваченное зарей. И внутреннее состояние человека тоже входит в эту объемную картину мира как органическая его часть:
В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы,
И заря, заря!..
То есть здесь налицо эволюция человеческого и природного планов, хотя полностью отсутствует аналитический элемент, лишь фиксация ощущений поэта. Нет конкретного портрета героини, только смутные, неуловимые приметы ее облика в субъективном восприятии автора. Таким образом, движение, динамика неуловимого, прихотливое чувства передает сложный мир личности, вызывая ощущение органического слияния жизни природной и человеческой.
Для поэзии восьмидесятников характерно сочетание двух начал: вспышка «неоромантизма», возрождение высокой поэтической лексики, огромный рост влияния Пушкина, окончательное признание Фета, с одной стороны, а с другой - явное влияние реалистической русской прозы, прежде всего Толстого и Достоевского (в особенности, конечно, навык психологического анализа). Влияние прозы усиливается особым свойством этой поэзии, ее рационалистическим, исследовательским характером, прямым наследием просветительства шестидесятников.
Вместе с общим тяготением к факту, к углубленно психологическому анализу у этих поэтов заметно подчеркнутое тяготение к реалистически точной детали, вводимой в стих. При остром взаимном тяготении двух полюсов - реалистического, даже натуралистического, и идеального, романтического, - сама реалистическая деталь возникает в атмосфере условно-поэтической, в окружении привычных романтических штампов. Эта деталь, с ее натурализмом и фантастичностью, соотносима уже не столько с достижениями предшествующей реалистической эпохи поэзии, сколько с эстетическими понятиями наступающей эпохи декадентства и модернизма. Случайная деталь, нарушающая пропорции целого и частей, - характерная стилевая примета этой переходной эпохи: стремление отыскивать и запечатлевать прекрасное не в вечной, освященной временем и искусством красоте, а в случайном и мгновенном.