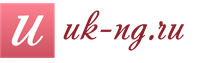Юджин онил создатель подлинно американской драматургии. Рис.79. Юджин О’Нил. Темы жертвы и рока: "Император Джонс", "Крылья даны всем детям Божьим", "Луна для пасынков судьбы
Лекции я писала: Американская драматургия –она сплошь депрессивна. ЮДЖИН О ’НИЛ даёт направление (пьеса «Косматая обезьяна» (1922, русский перевод 1925).Мифологические пьесы американской действительности, трилогия «Участь Электры» (Юджин О Нил. Трилогия. Траур - Участь электры). Юджин О Нил лежал в больнице и от нечего делать по ночам читал, заинтересовался и стал драматургом.У него трагическая судьба(болезнь Паркенсона когда руки трясутся). Он очень много берет от Фрейда и его психологического анализа.
Юджин О’Нил – его главная пьеса « Любовь под вязами!» (кратко)
Действие происходит в Новой Англии на ферме Эффраима Кэбота в 1850 г.
Весной старый Кэбот неожиданно куда-то уезжает, оставив ферму на сыновей - старших, Симеона и Питера (им под сорок), и Эбина, рожденного во втором браке (ему около двадцати пяти). Кэбот - грубый, суровый человек, сыновья боятся и втайне ненавидят его, особенно Эбин, который не может простить отцу, что тот извел его любимую мать, нагружая непосильной работой.
Отец отсутствует два месяца. Бродячий проповедник, пришедший в соседнюю с фермой деревню, приносит весть: старик Кэбот снова женился. По слухам, новая жена молода и хороша собой. Известие побуждает Симеона и Питера, давно грезящих калифорнийским золотом, уйти из дома. Эбин дает им на дорогу денег при условии, что они подпишут документ, в котором отрекутся от прав на ферму.
Ферма первоначально принадлежала покойной матери Эбина, и тот всегда думал о ней как о своей - в перспективе. Теперь с появлением в доме молодой жены возникает угроза, что все достанется ей. Абби Пэтнем - миловидная, полная сил тридцатипятилетняя женщина, лицо её выдает страстность и чувственность натуры, а также упрямство. Она в восторге от того, что стала хозяйкой земли и дома. Абби с упоением произносит «мое», говоря обо всем этом. На нее производят большое впечатление красота и молодость Эбина, она предлагает молодому человеку дружбу, обещает наладить его отношения с отцом, говорит, что может понять его чувства: на месте Эбина она тоже настороженно встретила бы нового человека. Ей пришлось в жизни нелегко: осиротев, она должна была работать на чужих людей. Вышла замуж, но муж оказался алкоголиком, а ребенок умер. Когда умер и муж, Абби даже обрадовалась, думая, что снова обрела свободу, но вскоре поняла, что свободна только гнуть спину в чужих домах. Предложение Кэбота показалось ей чудесным спасением - теперь она может трудиться хотя бы в собственном доме.
Прошло два месяца. Эбин по уши влюблен в Абби, его мучительно тянет к ней, но он борется с чувством, грубит мачехе, оскорбляет её. Абби не обижается: она догадывается, какая битва разворачивается в сердце молодого человека. Ты противишься природе, говорит она ему, но та берет свое, «заставляет тебя, как эти деревья, как эти вязы, стремиться к кому-нибудь».
Любовь в душе Эбина переплетена с ненавистью к незваной гостье, претендующей на дом и ферму, которые он считает своими. Собственник в нем побеждает мужчину.
Кэбот на старости лет расцвел, помолодел и даже несколько смягчился душой. Он готов выполнить любую просьбу Абби - даже выгнать с фермы сына, если она того пожелает. Но Абби меньше всего этого хочет, она страстно стремится к Эбину, мечтает о нем. Все, что ей нужно от Кэбота, - это гарантию, что после смерти мужа ферма перейдет к ней. Если у них родится сын, так и будет, обещает ей Кэбот и предлагает помолиться о рождении наследника.
Мысль о сыне глубоко поселяется в душе Кэбота. Ему кажется, что ни один человек не понял его за всю жизнь - ни жены, ни сыновья. Он не гнался за легкой наживой, не искал сладкой жизни - иначе зачем бы ему оставаться здесь, на камнях, когда он с легкостью мог обосноваться на черноземных лугах. Нет, видит Бог, он не искал легкой жизни, и ферма его по праву, а все разговоры Эбина о том, что она принадлежала его матери, - вздор, и если Абби родит сына, он с радостью все оставит ему.
Абби назначает Эбину свидание в комнате, которую при жизни занимала его мать. Сначала это кажется юноше кощунством, но Абби уверяет, что мать только хотела бы его счастья. Их любовь станет местью матери Кэботу, который медленно убивал её здесь, на ферме, а отомстив, она наконец сможет спокойно отдыхать там, в могиле. Губы влюбленных сливаются в страстном поцелуе…
Проходит год. В доме Кэботов гости, они пришли на праздник в честь рождения у хозяев сына. Кэбот пьян и не замечает ехидных намеков и откровенных насмешек. Крестьяне подозревают, что отец малыша - Эбин: с тех пор как в доме поселилась молодая мачеха, он совсем забросил деревенских девушек. Эбина на празднике нет - он прокрался в комнату, где стоит колыбелька, и с нежностью смотрит на сына.
У Кэбота происходит важный разговор с Эбином. Теперь, говорит отец, когда у них с Абби родился сын, Эбину нужно подумать о женитьбе - чтобы было где жить: ферма-то достанется младшему брату. Он, Кэбот, дал Абби слово: если та родит сына, то все после его смерти перейдет к ним, а Эбина он прогонит.
Эбин подозревает, что Абби вела с ним нечестную игру и соблазнила специально, чтобы зачать ребенка и отнять его собственность. А он-то, дурак, поверил, что она его действительно любит. Все это он обрушивает на Абби, не слушая её объяснений и уверений в любви. Эбин клянется, что завтра же утром уедет отсюда - к черту эту проклятую ферму, он все равно разбогатеет и тогда вернется и отберет у них все.
Перспектива потерять Эбина приводит Абби в ужас. Она готова на все, только бы Эбин поверил в ee любовь. Если рождение сына убило его чувства, отняло у нее единственную чистую радость, она готова возненавидеть невинного младенца, несмотря на то что она его мать.
На следующее утро Абби говорит Эбину, что сдержала слово и доказала, что любит его больше всего на свете. Эбину никуда не нужно уходить: их сына больше нет, она убила его. Ведь любимый сказал, что, если бы ребенка не было, все осталось бы по-прежнему.
Эбин потрясен: он совсем не желал смерти малыша. Абби неправильно его поняла. Она убийца, продалась дьяволу, и нет ей прощения. Он сейчас же идет к шерифу и все расскажет - пусть ee уведут, пусть запрут в камере. Рыдающая Абби повторяет, что совершила преступление ради Эбина, она не сможет жить в разлуке с ним.
Теперь нет смысла что-либо скрывать, и Абби рассказывает проснувшемуся мужу о романе с Эбином и о том, как она убила их сына. Кэбот в ужасе смотрит на жену, он поражен, хотя и раньше подозревал, что в доме творится неладное. Очень уж здесь было холодно, поэтому его так и тянуло в хлев, к коровам. А Эбин - слабак, он, Кэбот, никогда не пошел бы доносить на свою женщину…
Эбин оказывается на ферме раньше шерифа - он всю дорогу бежал, он страшно раскаивается в своем поступке, за последний час он понял, что сам во всем виноват и еще - что безумно любит Абби. Он предлагает женщине бежать, но та только печально качает головой: ей надо искупить свой грех. Хорошо, говорит Эбин, тогда он пойдет в тюрьму вместе с ней - если он разделит с ней наказание, то не будет чувствовать себя таким одиноким. Подъехавший шериф уводит Абби и Эбина. Остановившись на пороге, он говорит, что ему очень нравится их ферма. Отличная земля!______________________________________эта пьеса очень напоминает «Власть Тьмы» Толстого. Максим Горький ценил его очень высоко. Нобелевский лауреат за свое творчество. Фильм о работах, постановках О. Нила. Содержание этих драм – показывал настоящую изнанку жизни, простых людей, рабочий класс.
ЮДЖИН О ’НИЛ (1888-1953), американский драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе 1936. Родился 16 октября 1888 в Нью-Йорке. Родился в семье актера. С детства сопровождал родителей-актеров в гастрольных поездках. В юности он был матросом, играл в театре. Юджин О ’Нил - отец Уны О ’Нил , в 1943 году ставшей женой режиссёра и актёра Чарльза Чаплина, и дед актрисы Джеральдины Чаплин……
Театр между двумя войнами. Пьесы Пиранделло раскрывают нарастание иррационализма интеллектуальной драматургии в условиях прихода к власти фашизма и роста военной опасности, мотивы крушения личности и потери ею устойчивой индивидуальности. Вместе с тем очевидно усиление игровых мотивов, которые вносят в пьесы чувство неуверенности и сомнение в способности искусства адекватно постичь и выразить реальную жизнь.Те же мотивы в своеобразном варианте несет в себе французская Интеллектуально-поэтическая драма межвоенного времени. В произведениях Ж. Жироду – «Троянской войны не будет», «Электра»,Ж. Ануя – «Дикарка», «Антигона», «Жаворонок» (последние выходят за рамки рассматриваемого периода), а затем, уже в послевоенное время, – Ж.П. Сартра – «Мухи», «Мертвые без погребения» – разворачивается борьба между поэзией и прозой буржуазного существования, одиноким романтиком-бунтарем и «сплоченным большинством» обывателей, вооруженных здравым смыслом.Творчество этих драматургов, в значительной степени «инспирировано» мастерами театра – режиссерами «Картеля» (Ш. Дюллен,Л. Жуве, Ж. Питоев, Г. Бати), приносит в сценическое искусство экзистенциальные мотивы, помогает проложить дорогу к массовому зрителю и выразить тревоги и надежды своего времени. Именно в театрах «Картеля» в период между двумя войнами происходит «ретеатрализация театра», совершается творческое раскрепощение и обретение максимально широкого и островыразительного сценического стиля, который готовит наиболее важные события, местом свершения которых станет послевоенная сцена.В данный период происходит рождение американской национальной драматургии, основоположником которой является Ю. О"Нил.Уже его первые пьесы, опубликованные в сборнике «Жажда» (1914)и поставленные в экспериментальном театре «Провинстаун плейерс», показали американскому зрителю суровую изнанку жизни.Драматургии О"Нила присущи поиски разнообразных форм, глубокая философия и жизненная правда. Все эти качества проявились в дальнейшем в пьесах ведущих американских драматургов – Т.Уильямса и А.Миллера.
ОПЕРЕТТА И МЮЗИКЛ соревновались в то время. Язык О.Нила достаточно тяжелый. Теннесси́ Уи́льямс (англ. 1983) - американский прозаик и драматург- пошел по пути политического театра. «Как нам дожить до утра» А Ю.О.Нил «Как нам жить дальше»ставит вопрос - сочетались 2 направления. Повлияли Великая Октябрьская революция и 1я мировая война. В самом начале 20 века (представление и переживание)преобладал режиссерский театр, а до этого был исключительно актерский.
О’НИЛ, ЮДЖИН (O’Neill, Eugene) (1888-1953), американский драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе 1936. Родился 16 октября 1888 в Нью-Йорке. С детства сопровождал родителей-актеров в гастрольных поездках, сменил несколько частных школ. В 1906 поступил в Принстонский университет, но уже через год бросил учебу. За несколько лет О’Нил сменил ряд занятий - был золотоискателем в Гондурасе, играл в труппе отца, ходил матросом в Буэнос-Айрес и Южную Африку, работал репортером в газете "Телеграф". В 1912 заболел туберкулезом, лечился в санатории; поступил в Гарвардский университет, чтобы заниматься в семинаре по драматургии у Дж.П.Бейкера (знаменитая "Мастерская 47").
Два года спустя труппа "Провинстаун плейерс" поставила его одноактные пьесы - К востоку, на Кардифф (Bound East for Cardiff , 1916) и Луна над Карибским морем (The Moon of the Caribbees , 1919), где в жесткой и одновременно поэтической манере переданы собственные впечатления О’Нила от морской жизни. После постановки первой многоактной драмы За горизонтом (Beyond the Horizon , 1919), повествующей о трагическом крушении надежд, он приобрел репутацию яркого драматурга. Пьеса принесла О’Нилу Пулитцеровскую премию - этой престижной премией будут награждены также Анна Кристи (Anna Christie , 1922) и Странная интерлюдия (Strange Interlude , 1928). Ободренный, исполненный творческого дерзания, О’Нил смело экспериментирует, умножая возможности сцены. В Императоре Джонсе (The Emperor Jones , 1921), исследующем феномен животного страха, драматическая напряженность значительно усиливается благодаря непрерывному бою барабанов и новым принципам освещения сцены; в Косматой обезьяне (The Hairy Ape , 1922) сильно и ярко воплощается экспрессионистская символика; в Великом боге Брауне (The Great God Brown , 1926) с помощью масок утверждается мысль о сложности человеческой личности; в Странной интерлюдии поток сознания героев забавно контрастирует с их речью; в пьесе Лазарь смеется (Lazarus Laughed , 1926) используется форма греческой трагедии с семью хорами в масках, а в Продавце льда (The Iceman Cometh , 1946) все действие сводится к затянувшейся попойке. Прекрасное владение традиционной драматургической формой О’Нил продемонстрировал в сатирической пьесе Марко-миллионщик (Marco Millions , 1924) и в комедии О, молодость ! (Ah, Wilderness !, 1932). Значение творчества О’Нила далеко не исчерпывается техническим мастерством - много важнее его стремление пробиться к смыслу человеческого существования. В его лучших пьесах, особенно в трилогии Траур - участь Электры (Mourning Becomes Electra , 1931), заставляющей вспомнить древнегреческие драмы, присутствует трагический образ человека, пытающегося провидеть свою судьбу.
Драматург всегда принимал активное участие в постановках своих пьес, но в период с 1934 по 1946 он отошел от театра, сосредоточившись на новом цикле пьес под общим названием Сага о собственниках, обокравших самих себя (A Tale of Possessors Self-Dispossessed ). Несколько пьес из этой драматической эпопеи О’Нил уничтожил, остальные были поставлены после его смерти. В 1947 была осуществлена постановка не вошедшей в цикл пьесы Луна для пасынков судьбы (A Moon for the Misbegotten ); в 1950 опубликованы четыре ранние пьесы под общим названием Утраченные пьесы (Lost Plays ). Умер О’Нил в Бостоне (шт. Массачусетс) 27 ноября 1953.
Написанная в 1940 на автобиографическом материале пьеса Долгий день уходит в ночь (Long Day’s Journey into Night ) была показана на Бродвее в 1956. Душа поэта (A Touch of the Poet ), в основе которой конфликт между отцом-иммигрантом из Ирландии и дочерью, живущей в Новой Англии, была поставлена в Нью-Йорке в 1967. Недолго продержалась в 1967 на Бродвее обработка незаконченной пьесы Дворцы побогаче (More Stately Mansions ). В 1981 вышла книга Юджин О’Нил за работой (Eugene O’Neill at Work ) с рисунками драматурга к более чем 40 спектаклям, в ней приведено около сотни творческих замыслов О’Нила.
Американский драматург, потомок переселенцев из Ирландии, Юджин О’Нил родился 16 октября 1888 г. в Нью-Йорке в семье "актера одной роли" (отец любил играть роль графа Монте-Кристо). Детство его прошло "на колесах" - театр часто переезжал из города в город. О’Нил сначала учился в католической школе-интернате, потом в колледже, в 1906 г. вступил в Принстонский университет, но после первого курса бросил его. До 30 лет он объездил десяток стран: в Аргентине и Англии бродяжничал, в Гондурасе занимался коммерцией, был там также и золотоискателем, два года плавал к Африке и Южной Америке, пока в Нью-Лондоне не устроился репортером. Там он заболел туберкулезом и после шестимесячного лечения "родился вторично".Ю. О’Нил начал писать одноактные пьесы (книга "Жажда", 1914). Как и в предыдущем сборнике, так и в следующем "Луна над Карибским морем" О’Нил в противоположность салонной драматургии вводит в свои произведения новых героев - моряков, бродяг, пьяниц, попрошаек, чей внутренний мир отнюдь не проще переживаний героев семейно-бытовых драм.
Первым произведением, поставленным на сцене, была пьеса "На восток, к Кардиффу" (1916) и шла в помещении заброшеной корабельни. Она же стала нью-йоркским дебютом автора.
Большую огласку имела пьеса "Жажда", в которой показана трагедия троих людей, которые после катастрофы корабля оказались среди открытого моря. Это произведения с трагическим звучанием, условия жизни героев и ситуации требовали от автора изображения вплоть до натуралистических тонов.
В 1918 г. О’Нил написал первую большую пьесу "За горизонтом". Она была поставлена 1920 г. на Бродвее и имела грандиозный успех. В надоедливом всем любовном треугольнике О’Нил сумел найти новые грани. Любовь ломает жизнь героям. Под его влиянием романтик становится практиком, брат, который любил землю, - неудачным спекулянтом. Несчастной осталась и девушка. Раз принятое неправильное решение приводит к катастрофе в жизни.
Немного иначе, уже с растленным влиянием золота, изображена низость действий человека в пьесе "Золото" (1920). В пьесе "Любовь под вязами" (1924), которая обошла все сцены мира, всего три персонажа - старый фермер Эфриам Кэбот, еще сильный мужчина с железной волей к жизни, его молодая жена Абби, практичная, но и страстная натура, и его сын Эбин, немного грубый, но и с прорывами глубокой душевности, - действуют в этом произведении. Это произведение за могущественной силой первобытных страстей напоминает античные трагедии. И действительно, желание владеть - землей, деньгами, любимым существом - ведет к страшной семейной трагедии.
Экспериментальные пьесы "Император Джонс" (1920) - о проводнике вагона, который после совершения преступления убежал в Африку и стал вождем островитян, и "Косматая обезьяна" (1922) - о бунте маленького человека, который выбрал в друзья гориллу, также имели большой успех. Авангардизм в драматургии США, считают критики, начался с пьесы Ю. О’Нила "Великий бог Браун" (1926), созданной на материале жизни художников. Здесь автор использует приемы условного театра и театра масок. Антирасистским пафосом пронизана пьеса "Крылья даны всем детям человеческим" (1923).
Девятиактовая драма "Странная интерлюдия" (1928) - произведение оригинальное, где герои, кроме диалога, делятся со зрителями своими мыслями, обращаясь к залу. Трилогия "Электре подобает траур" (1929) - перенесение античной трагедии об Агамемноне в XIX век во времена после гражданской войны в США. Но гибель целого рода произошла не только по воле судьбы, а и через страсти самых людей. Единственная комедия О’Нила - "О, дикость" (1933) - лирическое произведение, в котором прочитываются автобиографические мотивы.
В 1936 г. Ю. О’Нил первым из американских драматургов был удостоен Нобелевской премии "за силу влияния, правдивость и глубину драматических произведений, которые по-новому, оригинально истолковывают трагедии". Из-за болезни лауреат не прибыл на церемонию вручения премии, но в тексте речи, которую прислал Комитету, подчеркнул: "Для меня - это символ того, что Европа признала зрелость американского театра".
Значение творчества О"Нила далеко не исчерпывается техническим мастерством - много важнее его стремление пробиться к смыслу человеческого существования.
После получения Нобелевской премии О’Нил создал еще три шедевра. "Разносчик льда грядет" (1939) созвучный с пьесой М. Горького "На дне". Там тоже герои - люди "дна", пивнушек и мест разврата. Двенадцать лет О’нил не печатался, но писал величественную серию драм - показал жизнь США на протяжении 100 лет - "История зажиточных, которые обездолили себя". Однако создал лишь две пьесы "Величественные здания" (1939) и "Душа поэта" (1942). Другие произведения автор незадолго до смерти уничтожил.
Вторым шедевром стала пьеса "Долгий день уходит в ночь" (1941). Здесь четко видны автобиографические черты. Главный герой страдает от семейной атмосферы, несправедливых оскорблений.
В пьесе "Луна для пасынков судьбы" (1943) О’Нил продолжил рассказ о судьбе старшего сына семьи из предыдущего произведения - дальнейшее падение героя.
В 1943 г. драматург заболел. Это были тяжелые 10 лет - обессиливание, разлад здоровья, болезнь Паркинсона. Пьесы О’Нила ставились в театрах всего мира, тем не менее он не мог даже писать.
С.М. Пинаев
Творчество Ю. О’Нила отмечено своеобразным парадоксом: с одной стороны, его пьесы - общепризнанная вершина в развитии американского театра XX в., следы его влияния находят ныне у всех видных драматургов США, с другой стороны, «отец американской драмы» уже при жизни многим казался старомодным, не соответствующим духу времени - с его склонностью к глобальным философским умозаключениям, мрачным пафосом неприятия «материалистической» американской цивилизации, которую он назвал «величайшей в мире неудачей», тяжеловесностью стиля, отсутствием чувства юмора, способности подвергнуть ироническому осмеянию «абсурдность» современного мира. Трагизм мировосприятия, проявившийся в лучших произведениях американской литературы 20-30-х годов, в послевоенные годы все чаще уступал место сардоническому всеотрицанию, «черному юмору», сглаживанию социальных углов, тенденции судить о самых серьезных вещах легковесно, не затрагивая сферы чувств. «Мы так искусно замаскировали от самих себя интенсивность наших собственных чувств, ранимость наших сердец, что пьесы в трагедийной традиции стали казаться нам ложными», - говорил младший современник О’Нила Т. Уильямс.
Расцвет творчества О’Нила совпадает с высшими достижениями американской литературы 20-х годов, и этим многое сказано. Подлинную силу его драмам сообщает именно трагический ракурс, изображение жизни американского общества как «трагедии, самой потрясающей из всех написанных и ненаписанных» Не случайно немецкий критик Ю. Бэб уже в начале 30-х годов усматривал сходство о’ниловского «Императора Джонса» с «Макбетом», Р.Д. Скиннер возводил «Желание под вязами» к еврипидовской «Медее», а Б. Гэскойн - к расиновской «Федре»; Л. Триллинг в 1936 г. (год присуждения О’Нилу Нобелевской премии за драматические произведения, отмеченные оригинальной концепцией трагедии) писал, что художник решает проблему зла, выражая сущность этого жанра - смелое утверждение жизни перед лицом индивидуального поражения.
Однако подлинного понимания противоречивой природы трагического как важнейшего компонента о’ниловского мировосприятия мы, как правило, не находим в работах западных исследователей. Чаще всего они впадают в крайности, полагая, что трагизм драм О’Нила - это не более чем выражение трагизма и неустроенности его внутреннего мира, оторванного от окружающей реальности (Ф. Карпентер), следствие разрыва с католицизмом и тщетных попыток устранить этот разрыв (Р.Д. Скиннер, Л. Триллинг), художественная трансформация ницшеанских (Д. Алексендер, Л. Чэброу) или фрейдистско-юнгианских (Д. Фальк, К. Боуэн) концепций. Для некоторых отечественных литературоведов, напротив, характерна чрезмерная «социологизация» художественного метода драматурга, некоторое выпрямление, упрощение его эстетических принципов.
В чем же источник «трагического видения» писателя? Известно, что О’Нил неоднократно заявлял о том значительном влиянии, которое оказали на его творчество древнегреческие драматурги. Свой долг художника он видел в восстановлении духа античной трагедии в современной жизни и воплощении его в творчестве. Америка, считал писатель, потеряла собственную душу, погрязла в «мелочной жадности повседневного существования». Возможность глубокого «духовного восприятия вещей» дает лишь античная трагедия, искусство, мечта, заставляющая «бороться, желать жить», но действительность США не оставляет человеку никаких перспектив. Отображая острые общественные коллизии (точнее, их психологические последствия), драматург не мог до конца понять суть описываемых им явлений, увидеть логику исторических процессов. Отсюда ощущение некоего Фатума, Судьбы (что во многом идет и от увлечения античной трагедией), влияющего на ход событий и жизнь людей - «Рока, Бога, нашего биологического прошлого - как ни назови, во всяком случае - Тайны». В таких пьесах, как «Жажда», «Фонтан», «Лазарь смеялся», «Дни без конца», акцентируется отношение человека к некоему независимому от него абстрактному, даже мистическому началу. «Я - убежденный мистик, - писал драматург в 1925 г., - ибо всегда пытался и пытаюсь показать Жизнь через жизнь людей, а не просто жизнь людей через характеры». Но с другой стороны, «Желание под вязами», «Крылья даны всем божьим детям», «Долгий дневной путь в ночь» строятся на конкретных человеческих взаимоотношениях, отражающих важные общественные процессы. В ряде произведений («Волосатая обезьяна», «Великий Бог Браун», «Динамо») конкретная общественная ситуация, в которой ощущает себя современный человек, воспринимается в глобальном философском масштабе относительно радужной «древности» и мрачной безысходной «современности»; О’Нил воплощает здесь античную идею времени, тесно переплетенную с идеей судьбы, когда «судьба, рок не что иное, как абсолютность событийного, неотделимого от действия времени», как правило, враждебного человеку.
С античной трагедией пьесы О’Нила сближает и удивительное сочетание фатализма и прославления неукротимости человеческого духа. Его персонажи сознают, что ввергнуты в непостижимую «паутину обстоятельств», но вместе с тем никто из них не смиряется. «Человек в борьбе с собственной судьбой», по мнению писателя, «навсегда останется единственной темой драмы». Причем в этой борьбе всегда «побеждает смелый индивидуум», поскольку «судьба никогда не может сломить его... духа». В этом столкновении, в словосочетании «безнадежная надежда» (hopeless hope), которое художник употреблял применительно к греческой трагедии, - один из ключей к пониманию драматургии О’Нила.
Трагическая коллизия в драмах писателя обусловлена столкновением человека с тем, что мешает его естественным жизнепроявлениям. В ранних одноактных миниатюрах враждебное человеку «состояние мира» еще лишено конкретных очертаний. Конфликт носит абстрактно-философский характер. Неблагосклонная к человеку судьба выступает здесь под видом «непостижимых жизненных сил» (inscrutable living forces). Герой О’Нила противостоит Универсуму, косной враждебной Природе. Но природа не всегда выступает у американского писателя в роли бога, изначально враждебного человеку, как, например, в «Жажде», «Китовом жире» или «Анне Кристи». В ряде случаев она выражает «скрытую силу» «Жизни», карающую того, кто нарушил ее основные неписаные законы, изменил своему предназначению («Там, где помечено крестом», «Золото»). В «Луне над Карибским морем», как и в других пьесах из цикла о матросах «Гленкэйрна», главным героем сам автор называл «дух моря». «Вечная истина моря» является здесь своеобразной точкой отсчета, помогающей установить факт «выпадения» человека из жизни, из природы, трагическую дисгармонию существования. В этой же связи поминается море в пьесах «За горизонтом», «Крылья даны всем божьим детям», «Электре подобает траур». О’ниловские символы - вязы, море, солнце - полноправные участники его драм, полномочные «карать» или «поддерживать» персонажей. В поздних своих пьесах писатель дешифрует понятие судьбы. «Трагедия развивается подобно классической греческой драме, - пишет о пьесе “Долгий дневной путь в ночь” С. Финкелстайн, - только вместо “рока” и “богов” выступает живой общественный строй, при котором деньги играют роль всемогущего существа».
В античной трагедии она подчеркивала расхождение между надеждами, намерениями персонажей и результатами их действий, причиной чему было вмешательство рока в жизнь людей. А что же в произведениях О’Нила?
Капитан Бартлет («Золото») рассчитывает найти сокровище и разбогатеть, но в результате способствует убийству, превращается в маньяка, утрачивает чувство реальности и отравляет сознание собственного сына. Кристина Мэннон («Электре подобает траур»), убивая мужа, надеется обрести счастье со своим любовником, но, узнав о его гибели от руки ее сына, кончает с собой. Кон Мелоди («Печать поэта»), намереваясь защитить свою честь, подвергается в доме Харфорда унизительному избиению.
Источником трагической вины о’ниловского героя является его дезориентация в мире, враждебном человеку, поэзии, красоте. Он обрекает себя на катастрофу, когда, идя наперекор самому себе, совершает ошибку, начинает жить по законам этого мира, исполнять чужую роль, изменяя своему природному предназначению или высшим законам нравственности. В «Волосатой обезьяне» это клетка, предметы из стали, в «Золоте» - карта, в «Печати поэта» - конь Мелоди. Внешним разрешением конфликта и является определенное воздействие на такого рода объект. Капитан Бартлет рвет карту, Янк выпускает из клетки гориллу, Мелоди убивает коня. Эти символические акты свидетельствуют о том, что человек вернулся к самому себе, но уже в новом качестве, перерожденный в страдании. Это особенно характерно для ранних пьес писателя, герои которых «возвращаются к себе» только в преддверии смерти.
В пьесе «К востоку, на Кардифф» воспроизведены последние минуты жизни простого матроса Янка, который во время шторма упал и получил смертельную травму. Драматург уже в декорациях стремится выразить диссонанс между жизнью сегодняшней, тяжелой и той, которая существует лишь в мечтах умирающего: он создает макет замкнутого пространства, внутри которого заключен страдающий одинокий человек, потерянный в чужом и враждебном мире. Чтобы зримо выразить физические и духовные страдания героя, создать ощущение своеобразного заточения в жизненной клетке, художник помещает Янка в самую узкую часть комнаты-треугольника, отделенную от места, где спят его товарищи. Он как бы ощущает больной спиной катастрофическую замкнутость жизненного пространства, его тупик. Закрытость помещения отчетливо контрастирует с необъятной распахнутостью звездного неба.
Трагическая ирония находит здесь выражение в емких драматургических символах. Матросу Дрисколлу игра на расстроенном аккордионе напоминает завывания бэнши, духа смерти в ирландской мифологии. Он требует прекратить игру, но в наступившей тишине еще слышней становится вой сирены, предупреждающий об опасности столкновения в тумане - ироническая констатация того, что дух смерти по-прежнему преследует героев О’Нила. Вся пьеса проникнута подобными ироническими сопряжениями. Дрисколл советует Янку не думать о смерти, но в это время раздаются удары судового колокола и слышится крик вахтенных: «Aaall’s welll» (все в порядке). Столкновение обнадеживающей реплики Дрисколла с отпевающим звуком колокола как бы находит продолжение в звуковой метафоре: «all’s well» - словосочетание, информирующее о благополучии. «Aaall’s welll» - звукосочетание, напоминающее заунывный сигнал колокола. Целостный семантико-фонетический образ способствует созданию трагического настроения пьесы.
В ранних произведениях О’Нила преследующее героев зло, как правило, еще лишено социальной конкретности. Их герои, подобно древним грекам, ощущают себя игрушкой в руках немилостивой судьбы. «Туман, туман, туман, хоть глаз выколи - один туман... и не знаешь, куда тебя несет... Один только старый бес знает. Море», - эти слова завершают пьесу «Анна Кристи». Человек ничего не может знать о своей судьбе, о собственном будущем. Об этом знают Море, Природа, Жизнь. Но уже тогда, в первых своих драматургических опытах, художнику удавалось иногда связать понятие судьбы с конкретными фактами истории. События пьесы «В зоне» происходят во время Первой мировой войны. В атмосфере всеобщей подозрительности и страха матросы хватают и связывают своего товарища, приняв за немецкую бомбу пачку любовных писем, хранящуюся у него под подушкой. Антивоенный пафос пьесы «Снайпер» сводится к выразительной драматургической детали: неизбывная красота природы воспринимается сквозь брешь, оставленную артиллерийским снарядом. Разрушение, смерть «очуждаются» вечной истиной природы, естества. Преступление, зло, война не могут убить надежду на возрождение.
Излюбленной темой американской литературы и искусства 20-х годов становится утрата человеком души, его отторжения от самого себя как результат собственнических отношений в обществе и как следствие «машинизации» общества. Многие писатели видели в науке и технике новую религию, подчиняющую и подавляющую человека, а в машине - «требовательный и неумолимый фетиш», поклонение которому приняло видимость подлинного богослужения». Немецкий драматург-экспрессионист Г. Кайзер соотнес науку с богом в своей пьесе «Газ», а виднейший американский писатель С. Льюис в 1927 г. заявил, что тенденция к обожествлению машин «гибельна для жизни». В этой связи знаменательны слова О’Нила о «смерти старого Бога и неспособности науки и материализма выдвинуть нового, удовлетворяющего первобытный религиозный инстинкт поисков смысла жизни...». В пьесе «Волосатая обезьяна» символом «науки и материализма», выражением «нового Бога» служит сталь. На протяжении всего действия герою приходится вести борьбу с «производными» этого металла, со столь ненавистным О’Нилу обществом достатка и «материализма», которая на деле оказывается борьбой Янка с самим собой, внутренним столкновением человека «со своей судьбой».
Уже в 1-й сцене герой, заблуждающийся относительно своего могущества, называет себя сталью: «Да, я сталь, сталь, сталь! Я - мускулы стали! Я - сила стали!» При этом он ударяет кулаком по стальным брусьям, так что его голос заглушается звучанием металла. Делая человеческий голос и металлический звук нерасторжимыми, О’Нил с самого начала подчеркивает, что главенствующий компонент этого единства - сталь, а не человек. Заглушаемый грохотом металла, голос Янка уподобляется мычанию животного, а сам персонаж соотносится со зверем в клетке (вновь образ клетки, тема трагического порабощения человека жизнью). Эта ассоциация станет отчетливее впоследствии, когда Янк будет трясти решетку в тюремной камере.
Конфликт между человеком, ощущающим себя главным звеном «механизированного» общества, а потому сравнивающим себя со сталью, и самим этим обществом, символом которого является сталь, принимает отчетливые очертания в 3-й сцене. В обобщающей звуковой картине слышится скрежет «стали о сталь», предваряющий столкновение Янка и Милдред. Оскорбленный дочерью «стального короля», Янк швыряет ей вслед лопату, которая «с лязгом ударяется о стальную переборку» и с грохотом падает на пол. Это последнее в пьесе столкновение стали со сталью. Считавший себя центром вселенной, Янк после встречи с Милдред низвергается с воображаемого пьедестала. Но и героиня - не повелительница и не олицетворение могущества стали, а, по ее словам, «отброс от закалки и получающихся от этого миллионов». О’Нил делает вывод: «механический бог» современности поработил Янка, подчинил и физически выхолостил Милдред - представителей низшего и высшего сословий общества. Герои пьесы оказываются не столько антиподами, сколько жертвами общества. Не столкновение представителей разных общественных сословий создает трагическую коллизию, а противопоставление в сознании Янка «древности», когда человек был «на месте», и «современности», когда он ощущает себя в клетке. «Принадлежать» современным бездуховным «джунглям» может только горилла, а человек лишь в далеком прошлом мог ощущать гармонию с жизнью.
В пьесе «Крылья даны всем божьим детям» кажущиеся антиподы ведут борьбу не столько друг с другом, сколько с общим врагом: глубокими общественными пережитками, сконцентрированными в их сознании. Негр Джим Хэррис и белая девушка Элла Дауни оказываются париями в современном обществе: соблазненная и покинутая боксером Микки, Элла становится женщиной легкого поведения; Джим мечтает стать адвокатом, чтобы приносить пользу своему народу, но не заинтересованная в этом белая Америка чинит ему препятствия.
Как и в «Желании под вязами», О’Нил с удивительной психологической достоверностью показывает, как истинные человеческие чувства борются с извращенным представлением о мире, с традиционной системой ценностей. Внутреннее столкновение подлинно человеческого со стереотипом общественного мировосприятия вызывает у героини душевную болезнь, приводит к раздвоению личности. Элла понимает, что ее муж - самый «белый» из всех, кого она знает; но в то же время не может допустить, чтобы он стал адвокатом, его «возвышения» - ведь тогда он, негр, «возвысится» и над ней, «падшей», потерпевшей в жизни фиаско. Важная драматургическая деталь - конголезская маска, которая висит в доме Хэррисов. Для Джима и его сестры Хетти это произведение искусства, выражение народного самосознания, а для Эллы - напоминание о том кажущемся ей унижении, на которое обрекло ее общество. Пронзая маску ножом, она убивает «дьявола», свое больное сознание и возвращается в исконное, «невинное» состояние.
Если в «Волосатой обезьяне» образ клетки-тюрьмы возникает в самом начале и в дальнейшем только меняет формы, то в этой пьесе все движение предметно-сценической обстановки постепенно формирует образ. Стены в доме, где живут Джим и Элла, оседают, потолок нависает, в то время как мебель кажется все более громоздкой для комнаты, которая постепенно превращается в тюремную клетку. Общество окончательно уничтожило человека: Джим теряет надежду стать адвокатом, а Элла в своем безумии доходит до крайности - покушается на жизнь мужа.
Немалую роль в разрешении конфликта играют здесь световые эффекты. В 1-й картине сумерки опускаются как раз в то время, когда негр Джим и белая девочка Элла признаются друг другу в любви. Дети так же равны в своих чувствах, их отношения столь же гармоничны, как день и ночь (белое и черное), слившиеся в сумеречном свете. В дальнейшем события преимущественно развертываются при «бледном» и «безжалостном» свете уличного фонаря. И только в последней сцене, когда Элла через безумие как бы вновь возвращается в детство и герои вторично обретают утраченную гармонию, белый и черный - цвета дня и ночи - снова сливаются в сумеречном свете. Ужасна та эпоха, как бы говорит драматург, в которой люди могут соединиться и успокоиться лишь сойдя с ума.
В «Желании под вязами» трагическая коллизия проявляет себя наиболее интенсивно, ибо здесь природа человеческих отношений подавляется собственническими инстинктами, сложными психологическими комплексами, а также пуританской моралью, отрицающей жизнь в ее органических проявлениях. Противоестественные с точки зрения высшей нравственности желания (обладать, иметь) коверкают и извращают естественные чувства: любовь сосуществует с ненавистью, предательство - с высокой жертвенностью. В этом мире извращенных ценностей даже убийство ребенка служит подтверждением любви и верности. Мы наблюдаем как бы два взаимодействующих процесса: борьбу персонажей за обладание фермой и зарождение чувства любви молодых людей, зреющей подспудно и, наконец, прорывающейся бурным всплеском. Почвой для трагического является в данном случае состояние объективной действительности, при котором «всякое прекрасное явление в жизни должно сделаться жертвой своего достоинства». Сказанное относится и к пьесе «Крылья даны всем божьим детям».
Столкновение двух противоборствующих в пьесе стихий приобретает символические формы выражения. Желая остаться единственным претендентом на ферму, Эбин «откупается» от братьев. Получив деньги и почувствовав, наконец, свободу, Симеон и Питер «затевают вокруг Кэбота дикий танец индейцев...» В последнем действии уже сам Кэбот, устроив пир по случаю рождения «своего» ребенка, выкидывает «невероятные коленца» «в каком-то диком индейском танце». Наказанный Эбином, Кэбот, танцуя, напоминает, с одной стороны, людей, побежденных им (индейцев, убитых им в юности), а с другой - сыновей, притесняемых им долгое время. Убийство Кэботом индейцев можно рассматривать в свете основной темы как одну из попыток подавления им языческого, жизнеутверждающего начала. Но это начало присутствует и в нем самом: когда он уверен, что его плоть способствовала новому рождению, старый фермер раскрепощается, его жизненные токи, так долго сдерживаемые, высвобождаются, и он, опьяненный радостью, кружится в неистовом танце, совсем как его сыновья, получившие возможность уйти на золотые прииски Калифорнии. В декорациях к пьесе симптоматично сочетание мрачного дома и зеленых вязов, каменной стены и деревянных ворот. Стена - алтарь, воздвигнутый Кэботом для поклонения богу, который, по его словам, «в камнях», воплощение силы и бессердечия. Около деревянных ворот (дерево - жизнь) останавливаются полюбоваться красками неба (небо - антитеза фермы) Эбин, его братья. Этим словно подготавливается последний трагико-поэтический эпизод пьесы, когда Эбин и Абби, окончательно обретшие друг друга в любви, отрешенные от всего земного и корыстного, останавливаются у ворот, «благоговейно и восхищенно смотрят на небо».
Эбин Кэбот подобно тому, как это было в трагедии эпохи Возрождения и классицизма, становится жертвой заблуждения, «запоздалого узнавания». Его поведение обусловлено не столько внутренней коллизией между любовью и непреоборимым духом стяжательства, а (как, например, в трагедии Шекспира) разочарованием в только что обретенном и, как ему кажется, утраченном человеческом идеале. Здесь не просто разочарование алчного претендента, которого ловко обошел более удачливый конкурент, а трагедия другого, высшего порядка. Молодых персонажей уводят на смерть, но настроение финала нельзя назвать безысходным. Эбин перерождается, вновь обретает веру в любовь как цельное и единственно существующее, по-настоящему находит Абби, находит себя. В этом - очистительный эффект трагедии. Но пьеса еще не кончается. О’Нил вводит в действие шерифа, который произносит одну-единственную реплику: «Прекрасная ферма... Не отказался бы от нее». Того и гляди начнется новый трагический цикл, в котором человечность вновь будет принесена в жертву.
Мечтая о возрождении трагедии в современных условиях, пытаясь вернуть театр к «своему высшему... назначению - служить храмом, в котором религия поэтической интерпретации и символического прославления жизни передавалась бы всем присутствующим», О’Нил обращается к работе Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки». Его привлекает концепция взаимодействия «дионисийского» и «аполлонического» начал, культ Диониса как умирающего и возрождающегося божества. Наиболее отчетливо эта концепция, преломленная сквозь призму оригинального о’ниловского мироощущения, проявилась в пьесах «Великий Бог Браун» и «Лазарь смеялся». Главному герою первой из них дано символическое имя - Дайон Энтони, и этим подчеркивается, что в его душе столкнулись две силы: «созидательное языческое восприятие жизни» (дионисийское начало) и «мазохистский, отвергающий жизнь дух христианства, олицетворенный святым Антонием». Но, по мысли автора, ни одна из этих сил не может взять верх, поскольку в современном обществе человек утратил и радостное, гармоническое ощущение жизни, и христианскую веру в бога. На смену им пришел «невидимый полубог нашего нового материалистического мифа» - успех, выразителем которого в пьесе предстает Билли Браун. Настоящий художник выглядит в этом обществе аномалией и может существовать в нем лишь проституируя своим искусством. Отсюда его мучительный разлад с самим собой и ощущение трагической неустроенности жизни. Однако О’Нил прибегает здесь к своего рода дублированию. Подлинный трагизм - следствие несовместимости творческой личности с буржуазным обществом - писатель дополняет мнимым трагизмом, вытекающим из природы художественной натуры как таковой. Маска Пана, которую Дайон надевает на себя еще ребенком, не только служит средством защиты от общества «для сверхчувствительного художника-поэта», но и, по мысли автора, является «неотъемлемой частью его артистической натуры». Именно внутренняя раздвоенность Дайона, противоречие между лицом и маской делает его художником, истинно «живым», в то время как внутреннее равновесие Брауна означает духовную неполноценность, творческую бесплодность «типичного американца».
Философия этой пьесы выходит за пределы «игры масок» и сводится к двум основным идеям. «Великий Бог Браун», подобно «Волосатой обезьяне», является «комедией древности и современности», в которой современность ощущается как регресс, тупик на пути человечества, что подчеркивается образами сгущающейся тьмы. Темноту и холод - вот что в первую очередь ощущает современный человек. Но основной пафос драмы не сводится к этой пессимистической концепции. Безысходный мрак современности - лишь ступень в вечном обновлении жизни, природы, мира. Ницшеанскую идею вечного повторения, циклического возрождения жизни писатель вкладывает в уста Сайбель, которая в философско-аллегорическом плане воспринимается как Кибела, «языческая Земная Матерь». Эта же идея вечного повторения выражена и в композиции произведения, когда эпилог практически повторяет пролог по времени, месту действия и ключевым моментам содержания.
Стремление О’Нила возродить дух трагедии было взаимосвязано с его интересом к мифу как особому вневременному ракурсу восприятия действительности. Показательна в этом плане трилогия «Электре подобает траур», перекликающаяся с эсхиловской «Орестеей». Драматург, который постоянно задумывался над тем, что является ныне эквивалентом античному року, находит его в генах, в биологических, родовых связях. Источник драматургического конфликта вновь заключен в столкновении стихии любви, стремления к жизни с миром пуританской нетерпимости к чувству, в котором смерть и убийства являются нормой.
Действие в «Электре...» происходит в период окончания Гражданской войны в США (аналогия с Троянской войной в античном варианте), однако персонажи О’Нила как бы выхвачены из истории. В сюжете об Атридах американского художника привлекает идея наследственного проклятия. Трагический клубок отношений начинает разматываться с того момента, когда предок действующих лиц Эйб Мэннон впервые совершил преступление против любви и воздвиг свой «храм ненависти». С тех пор каждый из его потомков пытается так или иначе освободиться от тяготеющего над ним проклятия, но не может этого сделать - судьба («internal psychological fate») воздействует на человека изнутри. Если древнегреческий автор не расставался с надеждой, что изначально справедливый порядок вещей будет восстановлен, а поступки людей согласованы с мудрой волей богов, то американский драматург не видит для современного человека возможности достижения гармонии с жизнью.
В этом произведении трагический конфликт проявляет себя на всех уровнях драматургической поэтики. «Мрачная серость камня» противопоставляется в ремарках «яркой зелени» лужайки и кустарника, ассоциирующейся с зеленым платьем Кристины, чем подчеркивается ее слияние с духом природы. Ствол сосны, «напоминающий черную колонну», соотносится с черным платьем ее дочери Лавинии. Вечнозеленая сосна, контрастирующая со всеми окружающими растениями, проходящими обычные жизненные фазы, ее траурно-черный ствол выражают мэнноновскую изолированность и вырождение. Белый греческий портик диссонирует с тусклой серой стеной дома. В этом сочетании заключен иронический подтекст. История Мэннонов воспринимается как подавление «греческого», языческого начала в их взаимоотношениях. Несуразное сочетание греческого портика с общей архитектурой дома воспринимается как насмешка над тщетными попытками Кристины, а позднее Лавинии преодолеть тяготеющее над ними проклятие и отстоять свои права на любовь. Действие пьесы только в одном эпизоде протекает вне дома Мэннонов. Особняк, как и ферма Кэботов, ассоциируется с неотвратимой судьбой. В его стенах находят смерть все основные персонажи трилогии. Характерно, что и действие последних произведений О’Нила также развивается в пределах одной предметно-сценической обстановки (салун Гарри Хоупа, таверна Мелоди, гостиная Тайронов, ферма Фила Хогена), что способствует нагнетанию внутреннего драматизма, косвенно усугубляет трагическую безвыходность положения действующих лиц, невозможность для них покинуть «темницу собственной души».
Если трагическая вина ранних протагонистов О’Нила заключалась в их отступлении от своей природы, предназначения, среды, естественных человеческих взаимоотношений, и во искупление вины они нередко приносили в жертву собственную жизнь, то теперь писатель смещает акценты. Трагическое - в самопостижении, в соприкосновении больного, отягощенного ощущением собственной вины сознания с реальной действительностью, которая, по словам Эдмунда Тайрона, «все три Горгоны вместе. Взглянешь им в лицо и окаменеешь». Но и в смерти как средстве искупления вины и достижения высшей гармонии за пределами жизни драматург отказывает своим поздним персонажам. Обязательный для О’Нила внутренний, психологический конфликт сводится к столкновению иллюзорного восприятия действительности с катастрофической реальностью. Причем драматург уже, как правило, не прибегает к его внешнему разрешению - трагически значимому поступку персонажа.
Воздействуя своим «лекарством» на обитателей салуна («Разносчик льда грядет»), Хикки только усугубляет трагическую ситуацию. Каждый из героев этой пьесы (за исключением Дона Пэррита) совершает поступок, который не ведет к каким-либо переменам. В драме «Долгий дневной путь в ночь» писатель окончательно отказывает своим персонажам в поступке, внешнем действии как форме трагической антитезы, отчаянного вызова судьбе. Все уже произошло, и этот последний день - вершина сходящихся линий, момент обнажения трагических, уже достигнутых итогов. Действие пьесы развивается как ряд параллельных внутренних коллизий, основываясь на противоборстве в душах людей чувства вины и самооправдания, обиды и любви, презрения и жалости, прошлого и настоящего.
В этом произведении, как и в ранней пьесе «К востоку, на Кардифф», О’Нил вводит сирену, оповещающую о появлении тумана. Но в «Долгом дне» художник прибегает к более общей и безысходной аллегории. Если в первом случае действие происходит на корабле, плывущем сквозь ненастную ночь, то теперь границы «особой» ситуации стираются. В «Кардиффе» сирена, напоминающая завывания бэнши, ассоциируется с умирающим человеком; в поздней пьесе, где персонажи еще сравнительно далеки от смерти, она выступает как более прозорливый и мрачный ясновидец - деталь, весьма красноречиво характеризующая мироощущение писателя в последние годы жизни. О’Нил использует также прием повторения или параллелизма, с помощью которого выявляется обобщающий, философский смысл произведения. Персонажи «Долгого дня» говорят как будто о посторонних событиях и людях, но мы не можем не чувствовать постоянных ассоциаций между судьбами упоминаемых в разговоре поэтов, родственников, знакомых и положением членов семьи Тайронов. Это создает своеобразный фон пьесы, раздвигает границы обобщения, позволяет увидеть в семейной драме Тайронов трагедию гораздо большего масштаба. В параллелизме символов, ситуаций, поступков героев отражено фаталистическое восприятие жизни, свойственное драматургу. Слова Мэри Тайрон о том, что «прошлое это и есть настоящее. Оно же и будущее», находят воплощение не только в содержании, но и в форме пьес О’Нила. Этот аспект был особенно важен для писателя, стремящегося выразить «греческое чувство судьбы в современном понимании».
Трагическое у О’Нила не сводится к пессимистическим итогам, к безысходному. В большинстве его пьес герои, проигрывая в реальных жизненных коллизиях, не достигая того, к чему они стремились с самого начала, находят то, что не входило в их намерения, но что, в сущности, оказывается значительнее их первоначальных желаний и целей. Брутус Джонс теряет власть над себе подобными, но причащается судьбе своего народа, своим исконным корням. Джим и Элла, утратив, казалось бы, последние жизненные позиции, приходят «у самых врат царства небесного» к духовной гармонии. Эбин и Абби, забыв о своих притязаниях на ферму, на исходе жизни по-настоящему обретают друг друга. Даже в «Разносчике льда», самой мрачной пьесе О’Нила, критик Э. Паркс справедливо усматривает «отрицательное утверждение», имея в виду поэтическую возвышенность (хотя и не без доли иронии) образа Ларри Слэйда, а также глубокое сострадание автора к своим героям. В одной из монографий О’Нил назван «одаренным поэтом», чья поэзия выражается не в словах, а в общем восприятии жизни, в том «созидающем духе», который знаменует все виды подлинного искусства.
Ключевые слова: Юджин О’Нил,Eugene O"Neill,критика на творчество Юджина О’Нила,критика на пьесы Юджина О’Нила,скачать критику,скачать бесплатно,американская литература 20 века
Только трагическое обладает той значимой красотой, которая и есть правда. Трагическое составляет смысл жизни и надежды. Самое благородное всегда было самым трагичным.
Ю. О’Нил
Самое точное определение Юджина О’Нила - «отец американской драмы». Долгое время драматургия считалась «слабым звеном» в литературе США. Театр в США в XIX - начале XX в. носил откровенно коммерческий развлекательный характер, в репертуаре преобладали «хорошо сделанные» пьесы - легкие комедии, мелодрамы, по большей части европейского происхождения. Юджин О’Нил обновил и реформировал американскую драматургию и театр. Он олицетворял те плодотворные искания, которые характеризовали новую драму в разных литературах мира {Ибсен, Шоу, Гауптман, Стриндберг, Метерлинк, Чехов, Горький). Он явил ее американскую разновидность. Правда, выступил О’Нил позднее, и его расцвет падает на пору «великого десятилетия» в литературе США.
Первые шаги: О’Нил и движение малых театров. С ранних лет драматург не только полюбил театр, но и пропитался духом сцены, атмосферой кулис. Юджин О’Нил (1888-1953) родился в Нью-Йорке в семье популярного в свое время актера ирландского происхождения Джеймса О’Нила (1847-1920), который блистал в шекспировских ролях, из его уст он постоянно слышал взволнованные монологи Гамлета и Отелло.
Бесконечные гастроли родителей мешали нормальной учебе, а богемный образ жизни негативно сказывался на нервном, впечатлительном характере их сына. Унаследовав от отца бурный, взрывной темперамент, О’Нил был личностью яркой, противоречивой, неординарной. В 1906 г. он поступил в Принстонский университет, в котором пробыл около года. Затем настала пора скитаний, которая дала будущему драматургу уникальные жизненные впечатления. Ему довелось поработать и мелким клерком в Нью-Йорке, и золотоискателем, и менеджером, и репортером в нью-йоркских газетах, где он напечатал свои первые очерки и стихи.
Затем О’Нила, как когда-то Мелвилла, а позднее Лондона, увлекла «муза дальних странствий». Корабельная служба длилась несколько лет. Неупорядоченный быт, алкоголь подорвали его здоровье, врачи обнаружили туберкулез. Его отправили в санаторий, и на больничной койке О’Нил впервые попробовал свои силы на драматургическом поприще, написав несколько одноактных пьес. Поправив здоровье, О’Нил учится в Гарвардском университете в семинаре по драматургии.
О’Нил-художник формировался в канун Первой мировой войны, дышал воздухом радикального брожения, вдохновлявшего художественную богему Гринвич Вилледжа. В 1914 г. он дебютировал первым сборником «Жажда и другие одноактные пьесы».
Период с 1915 по 1925 г. называют в США театральным ренессансом (наряд}" с «поэтическим»), «Пионерскую» роль сыграл в нем Юджин О’Нил. В своих пьесах О’Нил отозвался на важные перемены в художественной жизни США, которые проявились в движении так называемых малых театров. Это были активно функционировавшие с начала 1910-х гг. скромные по численности труппы, возникшие в разных городах США (Нью-Йорке, Бостоне, Филадельфии). Созданные энтузиастами-нова- торами, они на первых порах были полулюбительские, а затем выросли в профессиональные коллективы. Ориентируясь на демократического зрителя, малые театры дали сценическую жизнь многим образцам мировой драматургии, прежде всего современной, а также пьесам американских авторов-дебютантов, в том числе и О’Нила. Они отстаивали реалистические сценические приоритеты, отклоняя развлекательные шаблоны брод- вейского коммерческого театра.
Обретение зрелости: «За горизонтом». Уже сами персонажи ранних пьес драматурга-дебютанта представляли вызов бродвейской сцене. О’Нил выводил на театральные подмостки моряков, бродяг, люмпенов, проституток, людей «дна», изъясняющихся отнюдь не рафинированным слогом, а пользующимся грубыми жаргонизмами. Действие в этих пьесах разворачивается на палубе, в матросском кубрике, в портовом кабачке, в экзотических тропических странах.
Ранняя одноактная драма «Паутина » - пример умения О’Нила на малом сценическом пространстве в сжатый временной промежуток вместить социально насыщенное драматургическое действие. Персонажи - это своеобразный «треугольник»: проститутка Роз, сутенер Стив и гангстер Тим. События происходят в убогой комнате, в которой умело подобранные детали указывают на профессию ее обитательницы. В другой пьесе «Жажда» - «морской» колорит, а место действия - плот, на котором конфликтуют три уцелевших от кораблекрушения пассажира.
Новый шаг - уже трехактная пьеса «За горизонтом » (1920), первое произведение О’Нила, пробившееся на бродвейские подмостки. Драматическая коллизия связана с судьбами двух братьев Мэйо, Роберта и Эндрю, сыновей фермера. Роберт в отличие от Эндрю, трезвого, крепкого «практика», болезненный юноша тонкой душевной организации, пребывающий в мире романтических мечтаний. Заветная мечта Роберта - дальние странствия. Они нечто большее, чем обычная охота к перемене мест, - «жажда свободы, широкие просторы, радость открытий. Ему хочется узнать, что там, за горизонтом». Глубинная тема пьесы, насыщенной драматическими коллизиями, - горькая участь тех, кто изменяет своей мечте.
О’Нил в контексте драмы 1920-1930-х гг. Межвоенное 20-летие - время расцвета О’Нила, пора создания его шедевров. В этот период он стал не только американским драматургом «номер один», но и фигурой международно значимой. И хотя он оставался бесспорным лидером, рядом с ним творили несколько видных мастеров, пьесы которых украшали национальную сцену.
Драматургом, обладавшим острым чувством современности, был Элмер Райс, выступивший (не без влияния немецких образцов - Э. Толлер, Г. Кайзер) как сторонник внедрения экспрессионистской стилистики в драму (драма «Счетная машина», 1923). В 1930-е гг. Райс сближается с левыми, апробирует новаторские сценические средства, стремясь запечатлеть социальную панораму общества («Мы - народ», 1933), выступает как пионер антифашистской темы («Судный день», 1934; «Американский ландшафт », 1936).
Историческая тема получает развитие в написанных белыми стихами драмах «Королева Елизавета», «Мария Шотландская», «Вэлли Фордж» Максуэлла Андерсона (1888-1959), соперничавшего в популярности с О’Нилом.
Одним из талантливых драматургов 1930-х гг. был Клиффорд Одетс (1906-1963), первым освоившим тему классовой борьбы в одноактной драме «В ожидании Лефти» (1935). Отойдя от традиционной тенденциозности, Одетс выступал как зрелый мастер семейно-бытовой тематики, получавшей социальную окраску («Пока я жив», «Золотой мальчик», «Проснись и пой» и др.).
В 1938 г. выходит пьеса Торнтона Уайлдера «Наш городок», оригинальная по форме, исполненная гуманистического пафоса, по праву ставшая классикой национальной драматургии. Она - насыщенная философским смыслом иллюстрация кредо Уайлдера: «Величие мелочей повседневной жизни, ценность всякого индивидуального чувства».
Послевоенное десятилетие: время шедевров. Но вернемся непосредственно к О’Нилу. Драма «За горизонтом» открыла самое плодотворное десятилетие в его творчестве. Одна за другой выходят его прославленные пьесы, в каждой из которых он демонстрирует новую для себя стилевую манеру в поисках нетрадиционных форм сценического выражения.
«Император Джонс» (1921) - первая в ряду этих пьес. Действие пьесы развертывается на одном из островов Вест-Индии. Правитель острова - чернокожий Брутус Джонс. Уже само выдвижение в качестве протагониста пьесы негра было беспрецедентным явлением в истории американского театра. Более того, в центре произведения «больная» для американского общества проблема расизма.
Брутус порочен по природе. Бывший проводник пульмановских вагонов, он впитал в себя мораль и законы «белого общества». Действиями Джонса руководит бездушный прагматизм. Власть императора для него - выгодный бизнес. В устремлениях и поведении он лишь копирует представителей «высшей расы» белой Америки. Человек «второго сорта» в прежней жизни, Брутус выстраивает на острове социальную структуру, аналогичную «белому» обществу, безжалостно эксплуатирует темнокожих и гибнет в результате восстания его нодданых.
Другая пьеса «Волосатая обезьяна» (1922), написанная уже в экспрессионистской манере, ставит тему контраста богатых и бедных и жестокости «машинной» цивилизации, обесчеловечивающей человека труда.
Юджин О"Нил
Пьеса в одном действии
Hughie by Eugene O"Neill
Перевод И. Берштейн
Действующие лица
Эри Смит , мастер рассказывать сказки
Ночной портье
Вестибюль маленькой гостиницы на одной из улиц нью-йоркского Вест-Сайда. Время действия - между тремя и четырьмя часами ночи летом 1928 года.
Это одна из тех гостиниц, которые наоткрывались в 1900–1910 гг. вблизи «Великого Белого пути» и были поначалу недорогими, но вполне приличными заведениями, однако потом, чтобы выжить, вынуждены были сдать позиции. Первая мировая война и сухой закон принудили ее владельцев отказаться от претензий на респектабельность, и теперь это обыкновенная низкосортная «хаза», где за деньги разрешается все и где обслуживается любой, кого удастся заманить. Но и при этом ей далеко до процветания. «Большой ложный бум» 20-х годов ее не коснулся. «Вечное изобилие» Нового экономического закона обошло стороной. И сегодня гостиница существует только благодаря тому, что здесь сведены почти на нет все накладные расходы на обслуживание, ремонт и уборку помещений.
Стойка расположена слева, перед ней - часть обшарпанного вестибюля, несколько обшарпанных кресел. Вход с улицы - слева за сценой. Позади стойки - щит телефонного коммутатора, перед ним - вертящийся табурет. Правее обычные нумерованные почтовые гнезда, над ними часы. Ночной портье сидит на табурете спиной к телефонному щиту, лицом к авансцене. Делать ему решительно нечего. Он ни о чем не думает. Спать не хочет. Просто сидит, понурясь и безропотно вперившись в пустоту. На часы смотреть - только себя растравлять. Он и так знает, что до конца его смены далеко. Да ему и не нужны часы. За долгие годы, что он проработал ночным портье в нью-йоркских гостиницах, он научился определять время по звукам улицы.
Он средних лет - немного за сорок, - долговязый, худой, шея тощая, кадык торчит. Узкое, вытянутое бледное лицо лоснится испариной. Нос большой, но безо всякой характерности. Так же, как и рот. И уши. И даже припудренные перхотью жидкие каштановые волосы. Остановившиеся карие глаза за стеклами роговых очков вообще лишены выражения. Кажется, они не помнят даже, каково это - чувствовать скуку. Он одет в мешковатый синий костюм, белую рубашку с пристегивающимся воротничком, синий галстук. Костюм старый, пиджак на локтях лоснится, словно навощенный.
В безлюдном вестибюле гулко раздаются шаги - кто-то вошел с улицы. НОЧНОЙ ПОРТЬЕ устало подымается на ноги. Глаза его по-прежнему пусты, но губы сами собой резиново растягиваются в некоем подобии радушной улыбки в соответствии с известным законом: «Клиент всегда прав». При этом видны его крупные, неровные гнилые, зубы. Появляется ЭРИ СМИТ и подходит к стойке. Он примерно того же возраста, что и НОЧНОЙ ПОРТЬЕ, и у него такое же нездорово-бледное, рыхлое, в испарине лицо полуночника. Однако этим сходство исчерпывается. ЭРИ среднего роста, но кажется ниже из-за того, что у него массивный торс и толстые ноги, слишком короткие относительно туловища. И руки тоже. Квадратная голова глубоко сидит на шее, которая сливается с массивными плечами. Лицо круглое, нос сильно вздернутый, широкий. Голубые глаза с припухшими верхними веками, под глазами - темные мешки. Волосы белесые, заметно поредевшие, на макушке - плешь. Он подходит к стойке развязной непринужденной походочкой, слегка враскачку из-за коротких ног. В одной руке ЭРИ держит панаму; он вытирает лицо шелковым красно-синим платком. Одет в светло-серый костюм, пиджак с широкими лацканами и в обтяжку, по бродвейской моде, в глубоком вырезе видна старая, застиранная, но дорогая шелковая рубашка неприятного, до отвращения, синего оттенка и пестрый красно-голубой шейный платок с засаленным узлом. Брюки на плетеном кожаном ремне с медной пряжкой. Туфли бежевые с белым, носки белые, шелковые.
Он держится эдаким лихим завсегдатаем притонов, знатоком, которого на мякине не проведешь, и, действительно, играет по маленькой, ставит на лошадей и вообще кормится на периферии бродвейского рэкета. Он и ему подобные обитают повсюду в темных углах, в подъездах, в дешевых забегаловках и барах, самим себе они представляются эдакими циничными оракулами ипподромов, посвященными в жгучие тайны Бродвея. ЭРИ обычно разговаривает вполголоса, с оглядкой, подозрительно высматривая из-под полуприкрытых век, нет ли поблизости любопытствующих. Выражение лица непроницаемое, как полагается завзятому игроку. Маленький поджатый ротик кривит всегдашняя надменная улыбка знатока, которому известно все, и притом достоверно, из первых рук, а беглый, цепкий взгляд безошибочно различает на всем и вся ярлыки с обозначением цен. Но что-то в этом есть напускное, под личиной многоопытного деляги спрятана сентиментальная слабинка, не вяжущаяся с образом.
ЭРИ не смотрит на НОЧНОГО ПОРТЬЕ, он словно бы что-то против него имеет.
Эри (повелительно) . Ключ. (Но видя, что НОЧНОЙ ПОРТЬЕ безуспешно силится его вспомнить, нехотя.) Ну да, ты же меня не знаешь. Эри Смит я. Старый обитатель этого клоповника. Номер четыреста девяносто два.
Ночной портье (с усталым облегчением, оттого что не надо ничего вспоминать, снимая ключ) . Да, сэр. Вот четыреста девяносто второй.
Эри (берет ключ, смерив НОЧНОГО ПОРТЬЕ привычным оценивающим взглядом. Впечатление у него сложилось скорее благоприятное, но говорит по-прежнему недоброжелательно) . Давно на этой работе? Дней пять? А меня не было. В запое обретался. Только-только очухался. В себя прихожу. Хорошо, что уволили того сопляка, которого взяли на место Хьюи, когда он заболел. Строил из себя. Такому ничего не расскажешь. Очень приятно познакомиться, друг. Надеюсь, ты не слетишь с должности.
ЭРИ протягивает руку. НОЧНОЙ ПОРТЬЕ послушно ее пожимает.
Ночной портье (с услужливой безразличной улыбкой) . Рад с вами познакомиться, мистер Смит.
Эри . Как звать-то тебя?
Ночной портье (словно и сам уже почти забыл, потому что, вообще-то говоря, не все ли равно?) . Хьюз. Чарли Хьюз.
Эри (вздрагивает) . Что? Хьюз? То есть ты не шутишь?
Ночной портье . Чарли Хьюз.
Эри . Ну надо же! Подумать только. (С возросшим расположением к НОЧНОМУ ПОРТЬЕ.) А правда, если присмотреться, ты, конечно, не похож на Хьюи, но все-таки чем-то мне его напоминаешь. Ты ему часом не родня?
Ночной портье . Тому Хьюзу, что работал здесь столько лет и недавно умер? Нет, сэр. Не родня.
Эри (мрачно) . Ну, да, конечно. Хьюи говорил, что у него никого родных не осталось - кроме жены и детишек, понятно. (Помолчал и еще мрачнее.) Д-да. Отдал бедняга концы на той неделе. С его похорон-то я и запил. (Хорохорясь, словно защищаясь от мрака.) Задал небу жару! У меня это не часто бывает. В моем деле пьянство - погибель. Теряешь бдительность и, того гляди, выболтаешь что-нибудь, а придешь в себя, и находятся люди, которым спокойнее, если б тебя не было. Вот что значит много знать. Послушай моего совета, друг: никогда ничего не знай. Живи губошлепом и береги здоровье.
Речь его становится таинственной, в ней слышны зловещие призвуки. Но НОЧНОЙ ПОРТЬЕ этого не замечает. Благодаря богатому опыту общения с постояльцами, которые среди ночи останавливаются у стойки поговорить о себе, у него выработалась безотказная техника самозащиты. Он делает вид, будто покорно, любезно, даже сочувственно слушает, а сам отключается и остается глух ко всему, кроме прямо обращенных к нему вопросов, а бывает, что не слышит и их. ЭРИ думает, что произвел на него впечатление.
Ну, да у меня, черт побери, всегда шарики вертятся, трезвый ли, пьяный - не важно. Я им не дурачок какой-нибудь. Так что я говорил? Да, про запой. Закутил так, что небу было жарко. Ты бы посмотрел, какую блондинку я позапрошлой ночью отхватил. Обобрала меня до нитки. Блондинки - моя слабость. (Замолчал и смотрит на НОЧНОГО ПОРТЬЕ с презрительной насмешкой.) Ты небось женат, а?
Ночной портье (которому давно уже безразлично, тактичные вопросы ему задают или бестактные) . Да, сэр.
Эри . Так и знал! Я готов был поставить десять против одного. Вид у тебя такой, сразу скажешь. И у Хьюи такой был. Может, в этом и все сходство между вами. (Презрительно хмыкает.) И детишки, поди?
Ночной портье . Да, сэр. Трое.
Эри . Ну, брат, тебе еще похуже, чем Хьюи. У него только двое было. Трое, надо же! Н-да, вот к чему приводит неосторожность. (Смеется.)
НОЧНОЙ ПОРТЬЕ, как положено, улыбается постояльцу. Поначалу он немного обижался, когда слышал от постояльцев эту затертую шутку, в первый раз лет, наверное, десять назад - ну да, старшему, Эдди, теперь одиннадцать - или, может быть, двенадцать?